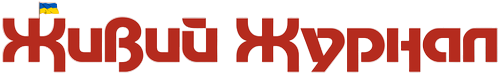Сьогодні: Вс, 06.07.2025 23:12:59
| ЖЖ інфо » Статті » Прес-релізи |
Полное собрание сочинений Владимира Высоцкого - 54
Автор: Леонид Федорчук, 05.01.2012, 11:43:05
Максим Григорьевич Полуэктов проснулся там, где лег. Еще спя-
щего нещадно донимало его похмелье, да так сильно, что и просы-
паться он не хотел. И не только с похмелья, а так - зачем было
ему просыпаться и что делать было ему, Максиму свет Григорьевичу,
в миру, который он уже давно собирался покинуть, в реальности
этой гнусной, где много лет у него сосало и болело в искрошенной
хирургами трети желудка его. В этой сохранившейся зачем-то трети,
которая и позволяла ему еще жить, но мешала тоже, и давала о себе
знать эта проклятая треть приступами и рвотами. Ничего особенного
не должен был делать он в этом мире, ничего такого интересного и
замечательного, никакие свершения. Однако, все же встал Максим
Григорьевич, где лег, выгнало его сон похмелье. Да и разве сон
это был? Кошмары, да и только.
Какие-то рожи с хоботами и крысиными глазами звали его из-за
окна громко и внятно, сначала медленно расставляя слова, потом,
по мере погружения воспаленного его мозга в слабый сон, все быст-
рее и громче. Звали рожи зачем-то распахнуть окно и шагнуть в ни-
куда, где легко и заманчиво; предлагали рожи какие-то мерзости,
считая, должно быть, что они Максиму Григорьевичу должны понра-
виться. И все громче, быстрее, доходя почти до визга, звучали на-
перебой зовущие голоса.
Иди сюда, Максим, иди, милый, что ты там не видел на диване
своем клопином? Гляди-ка, какая красавица ждет тебя! И предьявля-
ли сейчас же красавицу: то в виде русалки - зеленою и с гнусной
улыбкою, то убиенную какую-то, когда-то даже вдруг виденную уже
женщину - голую и в крови. Встань, не лежи! Выйди-ка, Максим, на
балкон, мы - вот они, здесь, за стеклом, перекинь ноги через пе-
рила, да прыгай, прыгай, прыгай!!!
И русалка, или девица хихикала или плакала и тоже манила руч-
кой, а потом все это деформировалось, превращалось совсем уже в
мерзость и исчезало - если разомкнуть веки.
А теперь, после забытья, которое все-таки наступило ночью -
урывками и трудно, забытья, в какое погружаешься не полностью, с
натугой и вздрагиваниями, и потом холодным, после забытья этого с
вереницей тяжелых сновидений, - надо было, все-таки проснуться
окончательно, спустить ноги с дивана, пойти на кухню и выпить ле-
дяной воды из холодильника, а лучше бы пива засосать, да нет его
- пива-то, ничего нет хмельного в доме, это Максим Григорьевич
знал наверняка, потому что так всегда было, что утром ничего не
было. Но вставать надо. И еще держась за сон нераскрытыми глазами
и цепляясь за него, застонал он - пенсионер и пожарник, бывший
служащий внутренней охраны различных заведений разветвленной на-
шей пенитенциарной системы, оперированный язвенник, желчный и не-
добрый молчун, Максим Григорьевич Полуэктов. Застонал, потому что
подступали и начали теснить улетавший сон вчерашние и давешные
воспоминания, от которых стыдно и муторно, и досадно, и зло берет
на себя самого, а больше на тех, на свидетелей и соучастников пь-
яных его вчерашних действий и болтовни. И излишки желудочного со-
ка уже подступали к горлу и просили спиртного: дай, дескать, тог-
да осядем обратно, вот и спазмы начали стискивать голову и тоже
того же требовать - подай сей же момент, а то задавим, и показы-
вали даже, намекали, как они его, Максима Григорьевича, задавят,
эти спазмы.
И совсем уже некстати вспомнилось вдруг пресытившемуся инвали-
ду, как несколько лет назад в бутырке измывались над ним заклю-
ченные. Вот входит он в камеру, предварительно, конечно, заглянув
в глазок и опытным глазом заметив сразу, что играли в карты, од-
нако, пока он отпирал да входил, карты исчезли и к нему бросался
баламут и шкодник - Шурик, по кличке "Внакидку" и начинал его,
Максима Григорьевича, обнимать и похлопывать со всякими ужимками
и прибаутками ласковыми. Максим Григорьевич и знал, конечно, что
неспроста это, что есть за этим какой-то тайный смысл и издевка,
отталкивал, конечно Шурика Внакидку и медленно подходил к койке,
где только что играли, искал скурпулезно, вначале даже с радост-
ным таким томлением, что вот сейчас под матрасом обтруханным и
худым найдет колоду сделанную из газет. Из 8-10 листов спрессова-
на каждая карточка и прокатана банкой на табурете, а уголочки вы-
мочены в горячем парафине, а трефы, бубы и черви да пики нанесены
трафаретом. Но никогда, как ни терпеливо и скурпулезно не искал
Максим Григорьевич, никогда он колоду не находил и топал обратно
ни с чем. А Шурик внакидку снова его обнимал и похлопывал, проща-
ясь. - Золотой, дескать, ты человек, койку вот перестелил заново,
поаккуратней. Не нашел ничего, гражданин начальник? Жалко! А чего
искал-то? Карты? Ай-ай-ай, да неужто карты у кого есть? Это вы
напрасно! Ну, ладно, начальник, обшмонал и капай отсюда, а то я,
гляди-ка, в одной майке, бушлатик помыли или проиграли - не помню
уже. Отыгрывать надо! Так, что не мешай мне, человек, будь друг.
Потешалась камера и гоготала, а у Шурика глаза были серьезные,
вроде он и не смеется вовсе, а очень даже Максиму Григорьевичу
сочувствует, любит его в глубине лживой своей натуры.
Первое время Максим Григорьевич так и думал и зла на Шурика не
держал. Шурик голиков по кличке "Внакидку" был человек лет уже 50
-ти, но без возраста, давнишний уже лагерный житель, знавший все
тонкости и премудрости тюремной сложной жизни. Надзирателей давно
уже не навидел,а принимал их как факт - они есть, они свою работу
справляют, а он свое горе мыкает.
Здесь Шурик был уже три или 4 раза, проходил он по делам все
больше мелким и незначительным - карманы да фармазон - и считался
человеком неопасным, заключенным сносным, хотя и баламутом.
Только потом узнал Максим Григорьевич, что карты он не находил
потому, что колоду Шурик на нем прятал. Пообнимает, похлопает,
приветствуя - и прячет, а прощаясь - достает.
Вспомнил это сейчас Максим Григорьевич и в который раз разоз-
лился и выругался про себя. Проснулся, значит. С добрым утром!
Кому с добрым? Вода жажду утолила минут на пять, а потом вырвало
теплым и горьким. Походил хозяин по дому босым, помаялся и снова
прилег. Хозяин... Да никакой он не хозяин в этом доме. Так - тер-
пят да ждут, что помрет. Жена - давно уже не жена. Дочери - не
дочери. Одна все плачет про свои дела, другая - Тамарка - сука.
Второй год с ним не говорит, да и он не затевает разговоров-то.
Больно надо. Она и дома-то почти не бывает, таскается с кем-то и
по постелям прыгает, подлая. Было, правда, затишье в молчаливой
их с Тамаркой вражде. Это, когда она в артистки собралась, да
провавалилась на конкурсе в училище театральное, а он тогда уст-
роился пожарником в театр. Она к нему туда часто приходила, не к
нему, конечно, а спектакли глядеть, но пускал-то ее он, через
служебный ход. Потом она дожидалась актеров, он в окошко видел со
своего поста, как она уходит то с одним, то с другим - то с этим
красивым и бородатым, то, но это уже потом, - с маленьким и хри-
патым, это который песни сочиняет и поет.
При воспоминании о театре снова его передернуло и потянуло
блевать. Насильно выпил он воды, чтобы было - чем, помучился да
покричал над унитазом и снова лег. Сегодня 11 мая, а вчера в те-
атре чествовали ветеранов. Их немного теперь осталось, но были
все же. И Максиму Григорьевичу перепало за орден. Зачем он его
нацепил - орден? Он хотя и боевой - "Боевого красного знамени", -
однако получен не за бои и войну, а за выслугу лет. 25 Лет отслу-
жил - и отвесили плюс к часам с надписью - "За верную службу".
Как розыскной собаке.
Максим Григорьевич сильно выпил вчера на дармовщинку. Со мно-
гими пил, особенно с этим артистом, что с томкой путался. Нехоро-
шо это, конечно, - женатый все же человек, с дитем. Знаменитый, в
кино снимается. А девка - совсем еще молодая, паразитка! Не мое
это, конечно, дело, но все-таки. Так вот, стало быть артист этот
- Сашка Кулешов, Александр Петрович, поправде сказать, потому что
лет ему 35 уже, расчувствовался на орден, тост за него, за макси-
ма Григорьевича, сказал, что вот, мол:
- Мы все входим и выходим из театра. По крайней мере раза два
в день видим Максима Григорьевича и привыкли к нему, как к мебе-
ли, а он де живой человек. С заслугами. И фронт у него за спиной,
и инвалид он, и орден Красного знамени у него. А этот орден за
просто так не дают, его за личную храбрость только. Это самый,
пожалуй, боевой и ценный орден. Выпьем, - сказал, - за человека,
его обладателя, скромного и незаметного человека. И дай ему бог
здоровья.
Потом подсел к Максиму Григорьевичу с гитарой, спел несколько
военных своих песен. Некоторые даже Максиму Григорьевичу понрави-
лись, хотя и знал он, что эти-то песни он поет везде, но пишет и
другие - похабные, например, "Про Нинку наводчицу" и блатные. Их
он поет по пьяным компаниям и по друзьям. А они его записывают на
магнитофон и потом продают. Он - Сашка Кулешов, сочинитель. Ко-
нечно, Максим Григорьевич, песни эти слышал. Тамарка крутила. И
они ему тоже нравились, да и парень этот был ему как-будто даже и
знаком - похож чем-то на бывших его подчиненных, хотя здесь он
играл, говорят, главные роли и считался большим артистом. Максим
Григорьевич, хоть и сидел без дела все дни напролет на посту сво-
ем, однако, что делалось внутри театра, дальше проходной, не ин-
тересовало его совсем. Один раз, правда после того, как услышал
дома песни, спросил даже у Тамарки:
- Это кто же такой поет?
- Мой знакомый!
- А он не сидел, часом?
- Он у тебя в театре работает. Кулешов это, Александр!
Максим Григорьевич даже рот раскрыл от удивления и на другой
день пошел глядеть спектакль. Давали что-то из военной жизни. Ку-
лешов и играл кого-то в солдатской одежде и пел. И опять Максиму
Григорьевичу понравилось. А вчера он еще тост сказал и подсел, и
песни пел. Нет! Он правда, ничего себе. Бутылку поставил, подли-
вал и, конечно, стал расспрашивать про боевые заслуги и за что
орден.
Максим Григорьевич умел молчать. Бывало, человек раз-два спро-
сит его о чем-нибудь, а он не ответит. Человек и отстанет. А вче-
ра он от выпитого расслабился и стал болтлив, даже расхвастался.
- Да, что орден, Александр Петрович, Саша, конечно, ты мне.
Ордена не у одного меня. Что про него говорить.
- Да не скромничай, Максим Григорьевич!
- А чего мне скромничать. Я, дорогой Саша, такими делами воро-
чал, такие я, Сашок, ответственные посты занимал и поручения вы-
полнял, что увидь ты меня тогда, лет тридцать назад - ахнул бы, а
лет сорок - так и совсем бы обалдел, - занесло куда-то в сторону
бывшего старшину внутренних войск МВД, и уже сам он верил тому,
что плел пьяный его язык, и уже всякий контроль и нить утеряв,
начал он заговариваться, и сам же на себя и напраслину возвел.
- Я сам Тухачевского держал!
- Как держал? - Опешил Саша и перестал бренчать.
- Так и держал, Саш, как держут - за руки, чтоб не падал.
- Где это?
- А где надо, Саш!
Про Тухачевского, конечно, Максим Григорьевич загнул. Это
просто фамилия всплыла как-то в его голове, запоминающаяся такая
фамилия, но мог бы вполне и Максим Григорьевич. Потому что других
он держал, тоже очень крупных. И вполне мог держать Максим Гри-
горьевич кого угодно. О чем он сейчас и имел ввиду сказать Саше
Кулешову...
Так и думал Максим Григорьевич, что вскочет сашок после этих
его слов на стул или на сцену и, призвав к тишине пьяных своих
друзей, выкрикнет хриплым, но громким знаменитым своим голосом: -
выпьем еще за Максима Григорьевича, потому что он, оказывается,
держал Блюхера! - Ага, еще одну фамилию вспомнил Максим Григорь-
евич.
Но Саша почему-то вместо этого встал, взглянул на случайного
своего собутыльника с сожалением и отошел. Больше он ничего не
пел, загрустил даже, потом, должно быть, сильно напился. Он - пь-
ющий, Кулешов, ох-ох-ох какой пьющий. Все это вспомнил Максим
Григорьевич и его опять замутило.
- И кто меня, дурака, за язык тянул? Хотя и хрен с ним, что
мне с ним детей крестить, - он даже вымученно улыбнулся, потому
что вышла сальная шутка, если подумать про Кулешова и Тамарку.
Еще раз отправился Максим Григорьевич в туалет, и все повтори-
лось сначала, только теперь заболела эта проклятая треть желудка.
Когда он назад тому четыре года выписывался из госпиталя МВД, где
оперировался, врач его, Герман Абрамович, предупредил его честно
и по-мужски:
- Глядите! Будете пить - умрете, а так - года три гарантия. А
он уже пьет запоем четвертый год и жив, если это можно так наз-
вать. А Герману Абрамовичу говорит, что не пьет, хотя и умный и
врач хороший.
А помрет Максим Григорьевич только года через три, как раз на-
кануне свадьбы Тамаркиной с немцем. А сейчас он не помрет, если
найдет, конечно, чего-нибудь спиртного.
Где же, однако, раздобыть тебе, Максим Григорьевич, на похмел-
ку? Загляни-ка в дочерние старые сумочки! Заглянул? Нет ничего.
Да откуда же быть у дочерей? Ирка с мужем - как копейка лишняя
завелась, премия зятьева или сэкономленные - они ее сейчас же в
сберкассу, на отпуск откладывают. Они - дочка с зятем - альпиниз-
мом увлекаются. И ездят на все лето в Домбай, то в Баксан куда-то
там в горы. Словом, лазят там по скалам. Особенно зять - Борис
Климов - лазит. Лазит да ломается. Хоть и не насмерть, но сильно.
В прошлом году два месяца лежал - привезли переломанного еще в
середине отпуска. Ничего - оклемался и в этом году опять за свое.
Так что нету у ирки денег, Максим Григорьевич, а у Тамарки и ис-
кать не стоит, эта сама у матери на метро берет, да у соседа по-
курить стреляет. Пойти, нешто, к соседу? Так занято-перезанято.
Да и нет, вроде, его еще, соседа. Он где-то на испытаниях. Он го-
рючим для ракет занимается. Серьезный такой дядя, хоть и моло-
денький. Уехал он недели две назад на этот Байканур. Он теперь
часто туда ездит. Поедет, а через неделю в газетах: "Произведен
очередной запуск... "Космос-1991". Все нормально и т. д. ", И со-
сед возвращается веселый и довольный, и ссужает Максима Григорь-
евича, если, конечно, тот в запое. Но сейчас нету соседа, не при-
ехал еще. Заглянуть разве в шкаф под простыни? Заглянул на всякий
случай. Нету и там, потому что жена давно уже там зарплату не
держит, перепрятала. И сидит Максим Григорьевич на диване, на
своей, так сказать территории, потому что другая вся площадь
квартиры не его, сидит и мучается жестоким похмельем - моральным
из-за ордена и физическим из-за выпитого. Так бы и сидел он еще
долго и бегал бы на кухню да в туалет, как вдруг зазвенела на
лестничной клетке гитара, раздались веселые голоса и кто-то на-
хально длинным звонком позвонил в дверь и заорал: есть кто-ни-
будь? Отворяйте сейчас же! А то двери ломать будем! Голос пока-
зался Максиму Григорьевичу очень знакомым и он пошлепал
открывать.
Глаза у него, хоть и налитые похмельной мутью, расширились,
потому что на пороге стоял Колька Святенко, по кличке Коллега,
собственной персоной, выпивший уже с утра, с гитарой и с каким-то
еще хмырем, который прятал что-то за спиной и улыбался... И Коль-
ка лыбился, показывая уже четыре золотых зуба, и у хмыря золотых
был полон рот, а у Кольки шрам на лбу свежий.
- А, Максим Григорьевич, - заорал Колька, как будто даже обра-
довавшись. - Не помер еще? А мы к тебе с обыском! Вот и ордер, -
тут дружок его извлек из-за спины бутылку коньяку. "Двин" - успел
прочитать Максим Григорьевич, - "Хорошо живут, гады! " А Колька
продолжал:
Я вот и понятых привел - одного правда. Знакомьтесь - звать
Толик. Фамилию до времени называть не буду. А прозвище - Штиле-
вой. Толик Штилевой! Прошу любить! Шмон мы проведем бесшумно да
аккуратно, потому что ничего нам не надобно, кроме Тамарки! Мак-
сим Григорьевич, который хотел было дверь у них перед носом зах-
лопнуть, при виде коньяка, однако, передумал и при виде же его
сейчас же побежал блевать. Глаза его налились кровью, он как-то
задрал голову и, не закрывши дверь, побежал снова в совмещенный
санузел.
Дружески и понятливо переглянулись и вошли сами. Пока Максим
Григорьевич орал, а потом умывался, раскупорили бутылку "Двина",
взяли стопочки в шкафу и, когда вернулся хозяин - обессилевший и
злой, - Колька уже протягивал ему полный стаканчик.
- Со свиданьицем, Максим Григ, поправляйтесь на здоровье, дра-
гоценный наш.
Максим Григорьевич отказываться не стал, выпил, запил водич-
кой, подождал, прошла ли. И друзья подождали, молча и сочувствен-
но глядя и желая, очень желая тоже, чтобы прошла. Она и прошла.
Он, вернее, - коньяк. Максим Григорьевич выдохнул воздух и спро-
сил:
- Ты чего с утра глаза налил и безобразишь на лестнице, уго-
ловная твоя харя? - ругнул он Кольку, ругнул, однако, беззлобно,
а так, чего на язык пришло.
- Так там написано, - пошутил Колька, - лестничная клетка -
часть вашей квартиры, значит там можно петь, даже спать при жела-
нии. Давай по второй.
Выпили и по второй. Совсем отпустило Максима Григорьевича, и
он проявил даже некоторый интерес к окружающему.
- Ты когда освободился?
- Да с месяца два уже!
- А где шманался, дурья твоя голова?
- Вербоваться хотел там же, под Карагандой, да передумал. До-
мой потянуло, да и дела появились, - Колька с толиком перегляну-
лись и перемигнулись.
- Ну дела твои я, положим, знаю. Не дела они, а делишки - дела
твои, да еще темные. В Москве-то тебе можно?
- Можно, можно, - успокоил Колька, - я по первому еще сроку,
да и учитывая примерное мое поведение в местах заключения.
- Ну, это ты, положим, врешь! Знаю я твое примерное поведение!
Максим Григорьевич выпил и третью.
- Знаю, своими же глазами видел!
Это была правда. Видел и знал Максим Григорьевич Колькино при-
мерное поведение. Года три назад, когда путалась с ним Тамарка,
ученица еще, и когда мать пришла зареванная из школы, попросила
она:
- Ты ведь отец, какой-никакой, а отец. Пойди, поговори с ним!
- Максиму Григорьевичу хоть и плевать было, с кем дочь и что, но
все же пошел он и с Николаем говорил. Говорил так:
- Ты это, Николай, девку оставь. Ты человек пустой да риско-
вый. Тюрьма по тебе плачет. А она еще школьница, мать вон к
директору вызывали.
Колька тогда только рассмеялся ему в лицо и обозвал разно -
мусором, псом и всяко, а потом сказал:
- Ты не в свое дело не суйся! Какой ты ей отец. Знаю я какой
ты отец. Рассказывали да и сам вижу. А матери скажи, что томку я
не обижаю и другой никто не обидит. Вся шпана, ее завидев, в под-
воротни прячется и здоровается уважительно. А если бы не я - лез-
ли бы и лапали. Та что со мной ей лучше, - уверенно закончил Ни-
колай.
Максим Григорьевич и ушел ни с чем, только дома ругал Тамарку
всякими оскорбительными прозвищами и мать ими же ругал, и сестру
с мужем, и целый свет.
- Пропадите вы все - вся ваша семья поганая да блядская. Не
путайте меня в свои дела. Я с уголовниками больше разговаривать
не буду. Я б с ним в другом месте поговорил. Но, ничего, - может
быть еще и придется.
И накаркал, ведь, старый ворон. Забрали Николая за пьяную ка-
кую-то драку с поножовщиной да с оскорблением власти. И по стран-
ной случайности все предварительное заключение просидел тот в бу-
тырке, в камере, за которой Максим Григорьевич тогда следил. Он
как сейчас помнит, Максим Григорьевич, - входит он, как всегда,
медленно и молча в камеру и встает ему навстречу Николай Святен-
ко, по кличке Коллега, - уголовник и гитарист, наглец и соблазни-
тель его собственной, хотя и нелюбимой, дочери. И совсем не заг-
рустил он от того, что грозило ему от 2 до 7, по статье 206 (б)
уголовного кодекса, а даже как будто наоборот, чувствовал себя
спокойнее и лучше.
- А-а, Максим Григорьевич - ненаглядный тесть. Прости, канди-
дат только в тести. Вот это встреча! Знал бы ты, как я рад, Мак-
сим Григорьевич. Ты ведь и принесешь чего-нибудь, чего нельзя, -
подмаргивал ему Колька, - по блату да по родственному, и послаб-
ление будет отеческое мне и корешам моим. Верно ведь, товарищ По-
луэктов?
Максим Григорьевич, как мог, тогда Кольку выматерил, выхлопо-
тал ему карцер, а при другом разе сказал:
- Ты меня, ублюдок, лучше не задирай. Я тебе такое послабление
сделаю! Всю жизнь твою поганую, лагерную помнить будешь. Николай
промолчал тогда, после карцера, к тому же у него на завтра суд
назначен был. Он попросил только:
- Тамаре привет передайте. И все. И пусть на суд не идет.
Максим Григорьевич ничего передавать, конечно, не стал. А на дру-
гой день Кольку увезли и больше он его не видал и не вспоминал
даже. И вдруг - вот он, как снег на голову, с коньяком да с дру-
гом, как ни в чем не бывало - попивает и напевает:
- Снег скрипел подо мной, поскрипев затихал,
И сугробы прилечь завлекали.
Я дышал синевой, белый пар выдыхал,
Он летел, становясь облаками!
- Что думаешь делать, если, конечно, не секрет? - Спросил мак-
сим Григорьевич. - На работу думаешь или снова за старое?
- За какое это старое? Я работал, Максим Григорьевич, я рекла-
му рисовал, а драка та случайная. Играли в петуха во дворе. Один
фраер хорошо разбанковался - третий круг подряд всех чешет, на
кону уже 200 было, ну, и я, хоть и выпивши - вижу передергивает
он. Я карты бросил и врезал ему, надел на кумпол. Он кровью за-
лился. А парень оказался цепкий да настырный. Так что мы с ним
минут десять разбирались. А пока милиция подоспела, соседи. Стали
вязать. А я вашего брата недолюбливаю, - извинился Колька, - те-
перь люблю больше себя, а тогда дурной был, не понимал еще, что
власть надо любить. И бить ее очень даже глупо. Ну, и конечно ми-
лиции досталось. Вот, так что драка эта дурацкая и срок схлопотал
я ни за что. Да что теперь об этом. Это быльем поросло.
- А ямщик молодой не хлестал лошадей,
Потому и замерз, бедолага, -
пропел Колька продолжение песни, из которой выходило, что если бы
ямщик был злой и бил лошадей, он мог бы согреться и не замерз бы,
и не умер. Так всегда, дескать, в несправедливой этой жизни -
добрый да жалостливый помирает, а недобрый да жестокий живет.
Песня Максиму Григорьевичу показалась хорошей и странно напом-
нила песни Саши Кулешова - артиста и вчерашнего собутыльника.
Опять засосало у него под ложечкой от досады за давешнее хвас-
товство и, отгоняя ее, досаду, Максим Григорьевич спросил для
приличия,что-ли у Толика - дружка Колькиного, который во все про-
должение разговора только лыбился и подпевал:
- А ты чем занимаешься?
- Я-то? Я - пассажир.
- А-а, - протянул Максим Григорьевич, хотя и не понял, -
кто-кто, говоришь?
- Пассажир! По поездам да такси. Работа такая - пассажир. Мак-
сим Григорьевич недоверчиво так взглянул на него, но, решив не
показать виду, что такой профессии он не знает, больше спрашивать
не стал. "Ну их к дьяволу, - народ коварный, да подковыристый, -
нарвешься опять на розыгрыш какой-нибудь и посмешищем сделаешь-
ся".
- Ну, а ты-то, ты-то, Николай, что делать будешь?
Снова переглянулись дружки и Николай ответил:
- Пойду в такси, должно быть, шофером. Поработаю на план и на
себя маленько. - Разговор шел вот уже час почти, а Николай про
Тамарку не спрашивал. Ждал, должно быть, что Максим Григорьевич
сам скажет. А тот не торопился, тянул резину, может нарочно, что-
бы помучать.
А уж как хотелось Николаю расспросить да разузнать про Тамару,
бывшую свою подругу, у которой был первым и которой сам же разре-
шил - не ждать. Он тогда и не думал вовсе, что будет думать о ней
и грустить и печалиться. Там - под Карагандой, где добывал он с
бригадой уголь для страны, ночью, лежа в бараке, вымученный и вы-
жатый дневной работой, отругавшись с товарищами или поговорив
просто, должен был бы он засыпать мертво. Но сон не шел, он и
считал чуть ли не до тысячи, и думал о чем-то приятном, всплывали
в памяти его и двор, и детство его, голубятника Кольки Коллеги, и
ленька сопеля, у которого брат на "Калибре", и позднейшее - мно-
гочисленные его рисковые и опасные похождения, и, конечно, женщи-
ны. Их было много в Колькиной бесшабашной жизни. Совсем еще паца-
на, брали его ребята к гулящим женщинам. Были девицы всегда
выпившие и покладистые. По нескольку человек пропускали они в
очередь ребят, у которых это называлось - ставить на хор. Проис-
ходило это все в тире, где днем проводили стрельбы милиционеры и
досаафовцы, стреляли из положения лежа. Так что были положены на
пол спортивные маты и на них-то и ложились девицы, и принимали
однодневных своих ухажеров пачками, в очередь, молодых, пьянова-
тых ребят, дрожащих от возбуждения и соглядатайства. - Да ты же
пацан совсем, - говорила одна Кольке, когда он пришел туда первый
раз. - Молчи, шалава! - Сказал тогда Колька как можно грубее и
похожее на старших своих товарищей, прогоняя грубостью мальчишес-
кий свой страх. Девица поцеловала его взасос, обняла, а потом
сказала: - Ну вот и все! Ты - молодец. Хороший будешь мужик. - И
отрезала очередному - следующего не будет. Хватит с вас. - Встала
и ушла. Запомнил ее Колька - первую свою женщину и даже потом
расспрашивал о ней у ребят, а они только смеялись, да и не знали
они, откуда она и кто такая. Помнил ее Колька благодарно, потому
что не был он тогда молодцом, и так... Ни черта не понял от вол-
нения и нервности, да еще дружки посмеивались и учили в темноте -
не так надо, Коля, давай покажем, как. А другая девица на мате
рядом, которая уже отдыхала и отхлебывала из горлышка водку,
рассказывала с подробностями, как подруге ее, то есть сейчасной
Колькиной любовнице, год назад ломали целку. Был это некто Вита-
лий Бабешка, знаменитый бабник и профессорский сынок. Все это
Колька слышал и не мог сосредоточиться и понять - хорошо ему или
нет.
Потом были другие разы, были и другие, совсем девчонки. Их за-
волакивали в тир насильно, они отдавались из-за боязни и потом
плакали, и Кольке было их жалко.
Когда стал он постарше, появились у него женщины и на несколь-
ко дней и дольше, был у него даже роман с администраторшей кино-
театра, где он работал. Администраторша была старше его лет на
десять, крашеная яркая такая блондинка. Николаю она казалась са-
мым верхом совершенства красоты и, когда она оставила его, през-
рев ради какого-то циркача, гонщика по вертикальной стене, он
чуть было с собой не кончил, Колька. А он мог. Но не стал. А нап-
ротив даже, подошел как-то к окончанию аттракциона с явным наме-
рением покалечить циркача, а потом заглянул в павильон, сверху
оттуда все видно и так был потрясен и ошарашен, что не дождался
гонщика, а просто ушел.
Эти и другие истории вспоминались и мелькали в глазах его,
когда отдыхал в бараке на нарах в старом непереоборудованном ла-
гере под Карагандой. Эти и другие, но чаще всего всплывало перед
ним красивое Тамаркино лицо, всегда загорелое, как в тот год,
после лета, когда у них все случилось. Он и подумать никогда не
мог, что будет вспоминать и тосковать о ней, даже рассмеялся бы
если бы кто-то предсказал подобное. Но у всех его друзей и недру-
гов вокруг были свои, которые, как все друзья и подруги надея-
лись, ждали их дома. Была это всеобщая и тоскливая необходимость
верить в это - самое, пожалуй, главное во всей этой пародии - на
жизнь, на труд, на отдых, на суд.
И глубокое Колькино подсознание - само выбросило на поверх-
ность прекрасный Тамаркин образ и предьявляло его каждую ночь ус-
талому Колькиному мозгу, как визитную карточку, как ордер на
арест, как очко - 678-8. И Колька свыкся и смирился с образом
этим назойливым и даже не мог больше без него, и если б кто-ни-
будь теперь посмеялся бы над этими сантиментами, Колька бы прибил
его в ту же минуту. И лежал он с зарытыми глазами и стонал от
тоски и бессилия. Но ни разу не написал даже, ни разу не просил
никого ничего передавать, хотя все, кто освобождался раньше,
предлагали свои услуги. - Давай, Коллега, письмо отвезу, - Кольку
уважали в лагере за неугомонность и веселье, - чего мучаешься?
Писем не ждешь и не получаешь! Помрешь так!
- Ничего, - ответил он, - приеду - разберемся. - Писем он и
вправду не получал и даже сестрам запретил настрого писать, а
дружки и не знали, где он, да и Тамара тоже.
А сейчас сидит он в ее доме и не спрашивает у отца ее, из са-
молюбия, что-ли, ничего о ней. Пьет с ним, с Максимом Григорьеви-
чем, да перекидывается не значащими ничего фразами и напевает:
- Что вы там пьете? Мы почти не пьем.
Здесь снег да снег при солнечной погоде!
Ребята, напишите обо всем,
А то здесь ничего не происходит,
- пел Николай тихим севшим голосом, почти речитативом, напевая
нехитрую мелодию:
- Мне очень не хватает вас,
Хочу увидеть милые мне рожи,
Как там Тамарка, с кем она сейчас?
Одна? Тогда пускай напишет тоже.
- Колька нарочно Тамарка, вместо положенного - Надюха.
- Страшней быть может только страшный суд, -
Письмо мне будет уцелевшей нитью.
Его, быть может, мне не отдадут,
но, все равно, ребята, напишите.
- закончил Колька просительно и отчаянно, с закрытыми глазами
и повибрировал грифом, чтобы продлить звук, от чего вышло уж сов-
сем тоскливо.
- Ты откуда эту песню знаешь? - спросила она, когда он открыл
глаза и взглянул на нее.
- Это ребята привезли. Какой-то парень есть, Александр Кулешов
называется. В лагере бесконвойные большие деньги платили за плен-
ки. Они все заигранные по 100 раз, мы вечерами слова разбирали и
переписывали. Все без ума ходят от песен, а начальство во время
шмонов, обысков то есть, листочки отбирало. Он вроде где-то си-
дит, Кулешов этот, или даже убили его. Хотя не знаю. Много про
него болтают. Мне человек десять разные истории рассказывали. Но,
наверное, все врут. А тебе понравилось?
- Понравилось, - тихо сказала Тамара, - спой Коленька еще, -
попросила она.
- Потом! - он снова приблизился к ней, отложив гитару, и поп-
росил: - ты, может, все же поцелуешь меня, Том? !
Она не ответила. Тогда Колька сделал то, что и должен был в
подобном случае сделать - отворил он балконную дверь, перекинулся
одним махом через перила и погрозил, что разомкнет пальцы, если
она его сей же момент не поцелует в губы страстно и долго, в гу-
бы. Попросил он так, чтобы что-нибудь сказать и разрядить, что
ли, обстановку, вовсе не расчитывая, что просьбу его удовлетво-
рят. Но, неожиданно для него и для себя, Тамара подошла к нему,
висящему на перилах, и поцеловала так, как он требовал, долго и
горячо, может быть и не страстно, но горячо.
Мгновенно как-то промелькнуло в ее голове: "Вот я ему так и
отомщу - Сашке. Вот так". А он уже поднимал руки, снова тело свое
перекинул на балкон, и начал целовать ее сам, как голодный пес
набрасывается на еду, как человек, которому долго держали зажаты-
ми нос и рот, а потом дали воздуху, хватает его жадно, как...
- Запри дверь, - сказала Тамара. - Псих! Придут ведь сейчас.
Он поднял ее на руки, боясь оставить даже на миг, с ношей сво-
ей драгоценной подошел к двери и запер. Так же тихо понес ее к
дивану.
- Не сюда, - сказала она, - в мою комнату.
Она слышала, как колотится и рвется из-под ребер его сердце,
как воздух выходит из груди его и дует ей в лицо. И она обняла
его и притянула к себе, а он бормотал, как безумный - Томка! Том-
ка! - И закрывал губы ее телом, дышал ее запахом, ею всей и про-
валивался куда-то в густую горячую черноту, на дне которой было
блаженство и исполнение всех желаний, плавал в обнимку в терпком
и пахучем вареве, называемом наслаждение.
И не помнил он ничего, что случилось, потому что сознание бро-
сило его в эти минуты. Очнулся только услышав:
- А теперь, Коля, правда - уходи и никогда больше не возвра-
щайся. Слышишь? Я прошу тебя, если любишь. Сейчас мне надо одной
побыть. Не думай, что из-за тебя. Просто одной.
- Не уйду я никуда, Тамара! И вернусь обязательно! И ни с кем
тебя делить не буду. Ты же знаешь, что Колька Коллега держит
мертвой хваткой. Не вырвешься!
Вырвусь, Коля! Я сейчас сильная, потому что мне очень плохо!
- Кто-нибудь обидел? - Убью!
- Ну вот, убью! Другого нечего и ждать от тебя. И если б знал
ты кого убивать собираешься?
- Кого же?
- Я, Коля, вот уже три года с Кулешовым Сашей, которого песню
ты мне спел и который сидит или убит - все сразу. Ни то, ни дру-
гое, Коля. Живет он здесь, в театре работает, а сейчас у меня с
ним плохо.
На все, что угодно, нашел бы ответ Коллега, на все, кроме это-
го, потому что еще там, в лагере, казалось ему, что знает он это-
го парня, что встреть он его - узнал бы в толпе, что появись он
только, и стали бы они самыми близкими друзьями, если душа его
такая как песни - не может и быть иначе. Сколько раз мечтал Коль-
ка, чтобы привезли его в лагерь, да и не он один - все кругом
мечтали и хотели бы с ним поговорить хотя бы. Всего ожидал Коль-
ка, только не этого. И не зная, что и как ответить и как вести
себя не зная, встал Колька и вышел, не дожидаясь дружка своего и
щего нещадно донимало его похмелье, да так сильно, что и просы-
паться он не хотел. И не только с похмелья, а так - зачем было
ему просыпаться и что делать было ему, Максиму свет Григорьевичу,
в миру, который он уже давно собирался покинуть, в реальности
этой гнусной, где много лет у него сосало и болело в искрошенной
хирургами трети желудка его. В этой сохранившейся зачем-то трети,
которая и позволяла ему еще жить, но мешала тоже, и давала о себе
знать эта проклятая треть приступами и рвотами. Ничего особенного
не должен был делать он в этом мире, ничего такого интересного и
замечательного, никакие свершения. Однако, все же встал Максим
Григорьевич, где лег, выгнало его сон похмелье. Да и разве сон
это был? Кошмары, да и только.
Какие-то рожи с хоботами и крысиными глазами звали его из-за
окна громко и внятно, сначала медленно расставляя слова, потом,
по мере погружения воспаленного его мозга в слабый сон, все быст-
рее и громче. Звали рожи зачем-то распахнуть окно и шагнуть в ни-
куда, где легко и заманчиво; предлагали рожи какие-то мерзости,
считая, должно быть, что они Максиму Григорьевичу должны понра-
виться. И все громче, быстрее, доходя почти до визга, звучали на-
перебой зовущие голоса.
Иди сюда, Максим, иди, милый, что ты там не видел на диване
своем клопином? Гляди-ка, какая красавица ждет тебя! И предьявля-
ли сейчас же красавицу: то в виде русалки - зеленою и с гнусной
улыбкою, то убиенную какую-то, когда-то даже вдруг виденную уже
женщину - голую и в крови. Встань, не лежи! Выйди-ка, Максим, на
балкон, мы - вот они, здесь, за стеклом, перекинь ноги через пе-
рила, да прыгай, прыгай, прыгай!!!
И русалка, или девица хихикала или плакала и тоже манила руч-
кой, а потом все это деформировалось, превращалось совсем уже в
мерзость и исчезало - если разомкнуть веки.
А теперь, после забытья, которое все-таки наступило ночью -
урывками и трудно, забытья, в какое погружаешься не полностью, с
натугой и вздрагиваниями, и потом холодным, после забытья этого с
вереницей тяжелых сновидений, - надо было, все-таки проснуться
окончательно, спустить ноги с дивана, пойти на кухню и выпить ле-
дяной воды из холодильника, а лучше бы пива засосать, да нет его
- пива-то, ничего нет хмельного в доме, это Максим Григорьевич
знал наверняка, потому что так всегда было, что утром ничего не
было. Но вставать надо. И еще держась за сон нераскрытыми глазами
и цепляясь за него, застонал он - пенсионер и пожарник, бывший
служащий внутренней охраны различных заведений разветвленной на-
шей пенитенциарной системы, оперированный язвенник, желчный и не-
добрый молчун, Максим Григорьевич Полуэктов. Застонал, потому что
подступали и начали теснить улетавший сон вчерашние и давешные
воспоминания, от которых стыдно и муторно, и досадно, и зло берет
на себя самого, а больше на тех, на свидетелей и соучастников пь-
яных его вчерашних действий и болтовни. И излишки желудочного со-
ка уже подступали к горлу и просили спиртного: дай, дескать, тог-
да осядем обратно, вот и спазмы начали стискивать голову и тоже
того же требовать - подай сей же момент, а то задавим, и показы-
вали даже, намекали, как они его, Максима Григорьевича, задавят,
эти спазмы.
И совсем уже некстати вспомнилось вдруг пресытившемуся инвали-
ду, как несколько лет назад в бутырке измывались над ним заклю-
ченные. Вот входит он в камеру, предварительно, конечно, заглянув
в глазок и опытным глазом заметив сразу, что играли в карты, од-
нако, пока он отпирал да входил, карты исчезли и к нему бросался
баламут и шкодник - Шурик, по кличке "Внакидку" и начинал его,
Максима Григорьевича, обнимать и похлопывать со всякими ужимками
и прибаутками ласковыми. Максим Григорьевич и знал, конечно, что
неспроста это, что есть за этим какой-то тайный смысл и издевка,
отталкивал, конечно Шурика Внакидку и медленно подходил к койке,
где только что играли, искал скурпулезно, вначале даже с радост-
ным таким томлением, что вот сейчас под матрасом обтруханным и
худым найдет колоду сделанную из газет. Из 8-10 листов спрессова-
на каждая карточка и прокатана банкой на табурете, а уголочки вы-
мочены в горячем парафине, а трефы, бубы и черви да пики нанесены
трафаретом. Но никогда, как ни терпеливо и скурпулезно не искал
Максим Григорьевич, никогда он колоду не находил и топал обратно
ни с чем. А Шурик внакидку снова его обнимал и похлопывал, проща-
ясь. - Золотой, дескать, ты человек, койку вот перестелил заново,
поаккуратней. Не нашел ничего, гражданин начальник? Жалко! А чего
искал-то? Карты? Ай-ай-ай, да неужто карты у кого есть? Это вы
напрасно! Ну, ладно, начальник, обшмонал и капай отсюда, а то я,
гляди-ка, в одной майке, бушлатик помыли или проиграли - не помню
уже. Отыгрывать надо! Так, что не мешай мне, человек, будь друг.
Потешалась камера и гоготала, а у Шурика глаза были серьезные,
вроде он и не смеется вовсе, а очень даже Максиму Григорьевичу
сочувствует, любит его в глубине лживой своей натуры.
Первое время Максим Григорьевич так и думал и зла на Шурика не
держал. Шурик голиков по кличке "Внакидку" был человек лет уже 50
-ти, но без возраста, давнишний уже лагерный житель, знавший все
тонкости и премудрости тюремной сложной жизни. Надзирателей давно
уже не навидел,а принимал их как факт - они есть, они свою работу
справляют, а он свое горе мыкает.
Здесь Шурик был уже три или 4 раза, проходил он по делам все
больше мелким и незначительным - карманы да фармазон - и считался
человеком неопасным, заключенным сносным, хотя и баламутом.
Только потом узнал Максим Григорьевич, что карты он не находил
потому, что колоду Шурик на нем прятал. Пообнимает, похлопает,
приветствуя - и прячет, а прощаясь - достает.
Вспомнил это сейчас Максим Григорьевич и в который раз разоз-
лился и выругался про себя. Проснулся, значит. С добрым утром!
Кому с добрым? Вода жажду утолила минут на пять, а потом вырвало
теплым и горьким. Походил хозяин по дому босым, помаялся и снова
прилег. Хозяин... Да никакой он не хозяин в этом доме. Так - тер-
пят да ждут, что помрет. Жена - давно уже не жена. Дочери - не
дочери. Одна все плачет про свои дела, другая - Тамарка - сука.
Второй год с ним не говорит, да и он не затевает разговоров-то.
Больно надо. Она и дома-то почти не бывает, таскается с кем-то и
по постелям прыгает, подлая. Было, правда, затишье в молчаливой
их с Тамаркой вражде. Это, когда она в артистки собралась, да
провавалилась на конкурсе в училище театральное, а он тогда уст-
роился пожарником в театр. Она к нему туда часто приходила, не к
нему, конечно, а спектакли глядеть, но пускал-то ее он, через
служебный ход. Потом она дожидалась актеров, он в окошко видел со
своего поста, как она уходит то с одним, то с другим - то с этим
красивым и бородатым, то, но это уже потом, - с маленьким и хри-
патым, это который песни сочиняет и поет.
При воспоминании о театре снова его передернуло и потянуло
блевать. Насильно выпил он воды, чтобы было - чем, помучился да
покричал над унитазом и снова лег. Сегодня 11 мая, а вчера в те-
атре чествовали ветеранов. Их немного теперь осталось, но были
все же. И Максиму Григорьевичу перепало за орден. Зачем он его
нацепил - орден? Он хотя и боевой - "Боевого красного знамени", -
однако получен не за бои и войну, а за выслугу лет. 25 Лет отслу-
жил - и отвесили плюс к часам с надписью - "За верную службу".
Как розыскной собаке.
Максим Григорьевич сильно выпил вчера на дармовщинку. Со мно-
гими пил, особенно с этим артистом, что с томкой путался. Нехоро-
шо это, конечно, - женатый все же человек, с дитем. Знаменитый, в
кино снимается. А девка - совсем еще молодая, паразитка! Не мое
это, конечно, дело, но все-таки. Так вот, стало быть артист этот
- Сашка Кулешов, Александр Петрович, поправде сказать, потому что
лет ему 35 уже, расчувствовался на орден, тост за него, за макси-
ма Григорьевича, сказал, что вот, мол:
- Мы все входим и выходим из театра. По крайней мере раза два
в день видим Максима Григорьевича и привыкли к нему, как к мебе-
ли, а он де живой человек. С заслугами. И фронт у него за спиной,
и инвалид он, и орден Красного знамени у него. А этот орден за
просто так не дают, его за личную храбрость только. Это самый,
пожалуй, боевой и ценный орден. Выпьем, - сказал, - за человека,
его обладателя, скромного и незаметного человека. И дай ему бог
здоровья.
Потом подсел к Максиму Григорьевичу с гитарой, спел несколько
военных своих песен. Некоторые даже Максиму Григорьевичу понрави-
лись, хотя и знал он, что эти-то песни он поет везде, но пишет и
другие - похабные, например, "Про Нинку наводчицу" и блатные. Их
он поет по пьяным компаниям и по друзьям. А они его записывают на
магнитофон и потом продают. Он - Сашка Кулешов, сочинитель. Ко-
нечно, Максим Григорьевич, песни эти слышал. Тамарка крутила. И
они ему тоже нравились, да и парень этот был ему как-будто даже и
знаком - похож чем-то на бывших его подчиненных, хотя здесь он
играл, говорят, главные роли и считался большим артистом. Максим
Григорьевич, хоть и сидел без дела все дни напролет на посту сво-
ем, однако, что делалось внутри театра, дальше проходной, не ин-
тересовало его совсем. Один раз, правда после того, как услышал
дома песни, спросил даже у Тамарки:
- Это кто же такой поет?
- Мой знакомый!
- А он не сидел, часом?
- Он у тебя в театре работает. Кулешов это, Александр!
Максим Григорьевич даже рот раскрыл от удивления и на другой
день пошел глядеть спектакль. Давали что-то из военной жизни. Ку-
лешов и играл кого-то в солдатской одежде и пел. И опять Максиму
Григорьевичу понравилось. А вчера он еще тост сказал и подсел, и
песни пел. Нет! Он правда, ничего себе. Бутылку поставил, подли-
вал и, конечно, стал расспрашивать про боевые заслуги и за что
орден.
Максим Григорьевич умел молчать. Бывало, человек раз-два спро-
сит его о чем-нибудь, а он не ответит. Человек и отстанет. А вче-
ра он от выпитого расслабился и стал болтлив, даже расхвастался.
- Да, что орден, Александр Петрович, Саша, конечно, ты мне.
Ордена не у одного меня. Что про него говорить.
- Да не скромничай, Максим Григорьевич!
- А чего мне скромничать. Я, дорогой Саша, такими делами воро-
чал, такие я, Сашок, ответственные посты занимал и поручения вы-
полнял, что увидь ты меня тогда, лет тридцать назад - ахнул бы, а
лет сорок - так и совсем бы обалдел, - занесло куда-то в сторону
бывшего старшину внутренних войск МВД, и уже сам он верил тому,
что плел пьяный его язык, и уже всякий контроль и нить утеряв,
начал он заговариваться, и сам же на себя и напраслину возвел.
- Я сам Тухачевского держал!
- Как держал? - Опешил Саша и перестал бренчать.
- Так и держал, Саш, как держут - за руки, чтоб не падал.
- Где это?
- А где надо, Саш!
Про Тухачевского, конечно, Максим Григорьевич загнул. Это
просто фамилия всплыла как-то в его голове, запоминающаяся такая
фамилия, но мог бы вполне и Максим Григорьевич. Потому что других
он держал, тоже очень крупных. И вполне мог держать Максим Гри-
горьевич кого угодно. О чем он сейчас и имел ввиду сказать Саше
Кулешову...
Так и думал Максим Григорьевич, что вскочет сашок после этих
его слов на стул или на сцену и, призвав к тишине пьяных своих
друзей, выкрикнет хриплым, но громким знаменитым своим голосом: -
выпьем еще за Максима Григорьевича, потому что он, оказывается,
держал Блюхера! - Ага, еще одну фамилию вспомнил Максим Григорь-
евич.
Но Саша почему-то вместо этого встал, взглянул на случайного
своего собутыльника с сожалением и отошел. Больше он ничего не
пел, загрустил даже, потом, должно быть, сильно напился. Он - пь-
ющий, Кулешов, ох-ох-ох какой пьющий. Все это вспомнил Максим
Григорьевич и его опять замутило.
- И кто меня, дурака, за язык тянул? Хотя и хрен с ним, что
мне с ним детей крестить, - он даже вымученно улыбнулся, потому
что вышла сальная шутка, если подумать про Кулешова и Тамарку.
Еще раз отправился Максим Григорьевич в туалет, и все повтори-
лось сначала, только теперь заболела эта проклятая треть желудка.
Когда он назад тому четыре года выписывался из госпиталя МВД, где
оперировался, врач его, Герман Абрамович, предупредил его честно
и по-мужски:
- Глядите! Будете пить - умрете, а так - года три гарантия. А
он уже пьет запоем четвертый год и жив, если это можно так наз-
вать. А Герману Абрамовичу говорит, что не пьет, хотя и умный и
врач хороший.
А помрет Максим Григорьевич только года через три, как раз на-
кануне свадьбы Тамаркиной с немцем. А сейчас он не помрет, если
найдет, конечно, чего-нибудь спиртного.
Где же, однако, раздобыть тебе, Максим Григорьевич, на похмел-
ку? Загляни-ка в дочерние старые сумочки! Заглянул? Нет ничего.
Да откуда же быть у дочерей? Ирка с мужем - как копейка лишняя
завелась, премия зятьева или сэкономленные - они ее сейчас же в
сберкассу, на отпуск откладывают. Они - дочка с зятем - альпиниз-
мом увлекаются. И ездят на все лето в Домбай, то в Баксан куда-то
там в горы. Словом, лазят там по скалам. Особенно зять - Борис
Климов - лазит. Лазит да ломается. Хоть и не насмерть, но сильно.
В прошлом году два месяца лежал - привезли переломанного еще в
середине отпуска. Ничего - оклемался и в этом году опять за свое.
Так что нету у ирки денег, Максим Григорьевич, а у Тамарки и ис-
кать не стоит, эта сама у матери на метро берет, да у соседа по-
курить стреляет. Пойти, нешто, к соседу? Так занято-перезанято.
Да и нет, вроде, его еще, соседа. Он где-то на испытаниях. Он го-
рючим для ракет занимается. Серьезный такой дядя, хоть и моло-
денький. Уехал он недели две назад на этот Байканур. Он теперь
часто туда ездит. Поедет, а через неделю в газетах: "Произведен
очередной запуск... "Космос-1991". Все нормально и т. д. ", И со-
сед возвращается веселый и довольный, и ссужает Максима Григорь-
евича, если, конечно, тот в запое. Но сейчас нету соседа, не при-
ехал еще. Заглянуть разве в шкаф под простыни? Заглянул на всякий
случай. Нету и там, потому что жена давно уже там зарплату не
держит, перепрятала. И сидит Максим Григорьевич на диване, на
своей, так сказать территории, потому что другая вся площадь
квартиры не его, сидит и мучается жестоким похмельем - моральным
из-за ордена и физическим из-за выпитого. Так бы и сидел он еще
долго и бегал бы на кухню да в туалет, как вдруг зазвенела на
лестничной клетке гитара, раздались веселые голоса и кто-то на-
хально длинным звонком позвонил в дверь и заорал: есть кто-ни-
будь? Отворяйте сейчас же! А то двери ломать будем! Голос пока-
зался Максиму Григорьевичу очень знакомым и он пошлепал
открывать.
Глаза у него, хоть и налитые похмельной мутью, расширились,
потому что на пороге стоял Колька Святенко, по кличке Коллега,
собственной персоной, выпивший уже с утра, с гитарой и с каким-то
еще хмырем, который прятал что-то за спиной и улыбался... И Коль-
ка лыбился, показывая уже четыре золотых зуба, и у хмыря золотых
был полон рот, а у Кольки шрам на лбу свежий.
- А, Максим Григорьевич, - заорал Колька, как будто даже обра-
довавшись. - Не помер еще? А мы к тебе с обыском! Вот и ордер, -
тут дружок его извлек из-за спины бутылку коньяку. "Двин" - успел
прочитать Максим Григорьевич, - "Хорошо живут, гады! " А Колька
продолжал:
Я вот и понятых привел - одного правда. Знакомьтесь - звать
Толик. Фамилию до времени называть не буду. А прозвище - Штиле-
вой. Толик Штилевой! Прошу любить! Шмон мы проведем бесшумно да
аккуратно, потому что ничего нам не надобно, кроме Тамарки! Мак-
сим Григорьевич, который хотел было дверь у них перед носом зах-
лопнуть, при виде коньяка, однако, передумал и при виде же его
сейчас же побежал блевать. Глаза его налились кровью, он как-то
задрал голову и, не закрывши дверь, побежал снова в совмещенный
санузел.
Дружески и понятливо переглянулись и вошли сами. Пока Максим
Григорьевич орал, а потом умывался, раскупорили бутылку "Двина",
взяли стопочки в шкафу и, когда вернулся хозяин - обессилевший и
злой, - Колька уже протягивал ему полный стаканчик.
- Со свиданьицем, Максим Григ, поправляйтесь на здоровье, дра-
гоценный наш.
Максим Григорьевич отказываться не стал, выпил, запил водич-
кой, подождал, прошла ли. И друзья подождали, молча и сочувствен-
но глядя и желая, очень желая тоже, чтобы прошла. Она и прошла.
Он, вернее, - коньяк. Максим Григорьевич выдохнул воздух и спро-
сил:
- Ты чего с утра глаза налил и безобразишь на лестнице, уго-
ловная твоя харя? - ругнул он Кольку, ругнул, однако, беззлобно,
а так, чего на язык пришло.
- Так там написано, - пошутил Колька, - лестничная клетка -
часть вашей квартиры, значит там можно петь, даже спать при жела-
нии. Давай по второй.
Выпили и по второй. Совсем отпустило Максима Григорьевича, и
он проявил даже некоторый интерес к окружающему.
- Ты когда освободился?
- Да с месяца два уже!
- А где шманался, дурья твоя голова?
- Вербоваться хотел там же, под Карагандой, да передумал. До-
мой потянуло, да и дела появились, - Колька с толиком перегляну-
лись и перемигнулись.
- Ну дела твои я, положим, знаю. Не дела они, а делишки - дела
твои, да еще темные. В Москве-то тебе можно?
- Можно, можно, - успокоил Колька, - я по первому еще сроку,
да и учитывая примерное мое поведение в местах заключения.
- Ну, это ты, положим, врешь! Знаю я твое примерное поведение!
Максим Григорьевич выпил и третью.
- Знаю, своими же глазами видел!
Это была правда. Видел и знал Максим Григорьевич Колькино при-
мерное поведение. Года три назад, когда путалась с ним Тамарка,
ученица еще, и когда мать пришла зареванная из школы, попросила
она:
- Ты ведь отец, какой-никакой, а отец. Пойди, поговори с ним!
- Максиму Григорьевичу хоть и плевать было, с кем дочь и что, но
все же пошел он и с Николаем говорил. Говорил так:
- Ты это, Николай, девку оставь. Ты человек пустой да риско-
вый. Тюрьма по тебе плачет. А она еще школьница, мать вон к
директору вызывали.
Колька тогда только рассмеялся ему в лицо и обозвал разно -
мусором, псом и всяко, а потом сказал:
- Ты не в свое дело не суйся! Какой ты ей отец. Знаю я какой
ты отец. Рассказывали да и сам вижу. А матери скажи, что томку я
не обижаю и другой никто не обидит. Вся шпана, ее завидев, в под-
воротни прячется и здоровается уважительно. А если бы не я - лез-
ли бы и лапали. Та что со мной ей лучше, - уверенно закончил Ни-
колай.
Максим Григорьевич и ушел ни с чем, только дома ругал Тамарку
всякими оскорбительными прозвищами и мать ими же ругал, и сестру
с мужем, и целый свет.
- Пропадите вы все - вся ваша семья поганая да блядская. Не
путайте меня в свои дела. Я с уголовниками больше разговаривать
не буду. Я б с ним в другом месте поговорил. Но, ничего, - может
быть еще и придется.
И накаркал, ведь, старый ворон. Забрали Николая за пьяную ка-
кую-то драку с поножовщиной да с оскорблением власти. И по стран-
ной случайности все предварительное заключение просидел тот в бу-
тырке, в камере, за которой Максим Григорьевич тогда следил. Он
как сейчас помнит, Максим Григорьевич, - входит он, как всегда,
медленно и молча в камеру и встает ему навстречу Николай Святен-
ко, по кличке Коллега, - уголовник и гитарист, наглец и соблазни-
тель его собственной, хотя и нелюбимой, дочери. И совсем не заг-
рустил он от того, что грозило ему от 2 до 7, по статье 206 (б)
уголовного кодекса, а даже как будто наоборот, чувствовал себя
спокойнее и лучше.
- А-а, Максим Григорьевич - ненаглядный тесть. Прости, канди-
дат только в тести. Вот это встреча! Знал бы ты, как я рад, Мак-
сим Григорьевич. Ты ведь и принесешь чего-нибудь, чего нельзя, -
подмаргивал ему Колька, - по блату да по родственному, и послаб-
ление будет отеческое мне и корешам моим. Верно ведь, товарищ По-
луэктов?
Максим Григорьевич, как мог, тогда Кольку выматерил, выхлопо-
тал ему карцер, а при другом разе сказал:
- Ты меня, ублюдок, лучше не задирай. Я тебе такое послабление
сделаю! Всю жизнь твою поганую, лагерную помнить будешь. Николай
промолчал тогда, после карцера, к тому же у него на завтра суд
назначен был. Он попросил только:
- Тамаре привет передайте. И все. И пусть на суд не идет.
Максим Григорьевич ничего передавать, конечно, не стал. А на дру-
гой день Кольку увезли и больше он его не видал и не вспоминал
даже. И вдруг - вот он, как снег на голову, с коньяком да с дру-
гом, как ни в чем не бывало - попивает и напевает:
- Снег скрипел подо мной, поскрипев затихал,
И сугробы прилечь завлекали.
Я дышал синевой, белый пар выдыхал,
Он летел, становясь облаками!
- Что думаешь делать, если, конечно, не секрет? - Спросил мак-
сим Григорьевич. - На работу думаешь или снова за старое?
- За какое это старое? Я работал, Максим Григорьевич, я рекла-
му рисовал, а драка та случайная. Играли в петуха во дворе. Один
фраер хорошо разбанковался - третий круг подряд всех чешет, на
кону уже 200 было, ну, и я, хоть и выпивши - вижу передергивает
он. Я карты бросил и врезал ему, надел на кумпол. Он кровью за-
лился. А парень оказался цепкий да настырный. Так что мы с ним
минут десять разбирались. А пока милиция подоспела, соседи. Стали
вязать. А я вашего брата недолюбливаю, - извинился Колька, - те-
перь люблю больше себя, а тогда дурной был, не понимал еще, что
власть надо любить. И бить ее очень даже глупо. Ну, и конечно ми-
лиции досталось. Вот, так что драка эта дурацкая и срок схлопотал
я ни за что. Да что теперь об этом. Это быльем поросло.
- А ямщик молодой не хлестал лошадей,
Потому и замерз, бедолага, -
пропел Колька продолжение песни, из которой выходило, что если бы
ямщик был злой и бил лошадей, он мог бы согреться и не замерз бы,
и не умер. Так всегда, дескать, в несправедливой этой жизни -
добрый да жалостливый помирает, а недобрый да жестокий живет.
Песня Максиму Григорьевичу показалась хорошей и странно напом-
нила песни Саши Кулешова - артиста и вчерашнего собутыльника.
Опять засосало у него под ложечкой от досады за давешнее хвас-
товство и, отгоняя ее, досаду, Максим Григорьевич спросил для
приличия,что-ли у Толика - дружка Колькиного, который во все про-
должение разговора только лыбился и подпевал:
- А ты чем занимаешься?
- Я-то? Я - пассажир.
- А-а, - протянул Максим Григорьевич, хотя и не понял, -
кто-кто, говоришь?
- Пассажир! По поездам да такси. Работа такая - пассажир. Мак-
сим Григорьевич недоверчиво так взглянул на него, но, решив не
показать виду, что такой профессии он не знает, больше спрашивать
не стал. "Ну их к дьяволу, - народ коварный, да подковыристый, -
нарвешься опять на розыгрыш какой-нибудь и посмешищем сделаешь-
ся".
- Ну, а ты-то, ты-то, Николай, что делать будешь?
Снова переглянулись дружки и Николай ответил:
- Пойду в такси, должно быть, шофером. Поработаю на план и на
себя маленько. - Разговор шел вот уже час почти, а Николай про
Тамарку не спрашивал. Ждал, должно быть, что Максим Григорьевич
сам скажет. А тот не торопился, тянул резину, может нарочно, что-
бы помучать.
А уж как хотелось Николаю расспросить да разузнать про Тамару,
бывшую свою подругу, у которой был первым и которой сам же разре-
шил - не ждать. Он тогда и не думал вовсе, что будет думать о ней
и грустить и печалиться. Там - под Карагандой, где добывал он с
бригадой уголь для страны, ночью, лежа в бараке, вымученный и вы-
жатый дневной работой, отругавшись с товарищами или поговорив
просто, должен был бы он засыпать мертво. Но сон не шел, он и
считал чуть ли не до тысячи, и думал о чем-то приятном, всплывали
в памяти его и двор, и детство его, голубятника Кольки Коллеги, и
ленька сопеля, у которого брат на "Калибре", и позднейшее - мно-
гочисленные его рисковые и опасные похождения, и, конечно, женщи-
ны. Их было много в Колькиной бесшабашной жизни. Совсем еще паца-
на, брали его ребята к гулящим женщинам. Были девицы всегда
выпившие и покладистые. По нескольку человек пропускали они в
очередь ребят, у которых это называлось - ставить на хор. Проис-
ходило это все в тире, где днем проводили стрельбы милиционеры и
досаафовцы, стреляли из положения лежа. Так что были положены на
пол спортивные маты и на них-то и ложились девицы, и принимали
однодневных своих ухажеров пачками, в очередь, молодых, пьянова-
тых ребят, дрожащих от возбуждения и соглядатайства. - Да ты же
пацан совсем, - говорила одна Кольке, когда он пришел туда первый
раз. - Молчи, шалава! - Сказал тогда Колька как можно грубее и
похожее на старших своих товарищей, прогоняя грубостью мальчишес-
кий свой страх. Девица поцеловала его взасос, обняла, а потом
сказала: - Ну вот и все! Ты - молодец. Хороший будешь мужик. - И
отрезала очередному - следующего не будет. Хватит с вас. - Встала
и ушла. Запомнил ее Колька - первую свою женщину и даже потом
расспрашивал о ней у ребят, а они только смеялись, да и не знали
они, откуда она и кто такая. Помнил ее Колька благодарно, потому
что не был он тогда молодцом, и так... Ни черта не понял от вол-
нения и нервности, да еще дружки посмеивались и учили в темноте -
не так надо, Коля, давай покажем, как. А другая девица на мате
рядом, которая уже отдыхала и отхлебывала из горлышка водку,
рассказывала с подробностями, как подруге ее, то есть сейчасной
Колькиной любовнице, год назад ломали целку. Был это некто Вита-
лий Бабешка, знаменитый бабник и профессорский сынок. Все это
Колька слышал и не мог сосредоточиться и понять - хорошо ему или
нет.
Потом были другие разы, были и другие, совсем девчонки. Их за-
волакивали в тир насильно, они отдавались из-за боязни и потом
плакали, и Кольке было их жалко.
Когда стал он постарше, появились у него женщины и на несколь-
ко дней и дольше, был у него даже роман с администраторшей кино-
театра, где он работал. Администраторша была старше его лет на
десять, крашеная яркая такая блондинка. Николаю она казалась са-
мым верхом совершенства красоты и, когда она оставила его, през-
рев ради какого-то циркача, гонщика по вертикальной стене, он
чуть было с собой не кончил, Колька. А он мог. Но не стал. А нап-
ротив даже, подошел как-то к окончанию аттракциона с явным наме-
рением покалечить циркача, а потом заглянул в павильон, сверху
оттуда все видно и так был потрясен и ошарашен, что не дождался
гонщика, а просто ушел.
Эти и другие истории вспоминались и мелькали в глазах его,
когда отдыхал в бараке на нарах в старом непереоборудованном ла-
гере под Карагандой. Эти и другие, но чаще всего всплывало перед
ним красивое Тамаркино лицо, всегда загорелое, как в тот год,
после лета, когда у них все случилось. Он и подумать никогда не
мог, что будет вспоминать и тосковать о ней, даже рассмеялся бы
если бы кто-то предсказал подобное. Но у всех его друзей и недру-
гов вокруг были свои, которые, как все друзья и подруги надея-
лись, ждали их дома. Была это всеобщая и тоскливая необходимость
верить в это - самое, пожалуй, главное во всей этой пародии - на
жизнь, на труд, на отдых, на суд.
И глубокое Колькино подсознание - само выбросило на поверх-
ность прекрасный Тамаркин образ и предьявляло его каждую ночь ус-
талому Колькиному мозгу, как визитную карточку, как ордер на
арест, как очко - 678-8. И Колька свыкся и смирился с образом
этим назойливым и даже не мог больше без него, и если б кто-ни-
будь теперь посмеялся бы над этими сантиментами, Колька бы прибил
его в ту же минуту. И лежал он с зарытыми глазами и стонал от
тоски и бессилия. Но ни разу не написал даже, ни разу не просил
никого ничего передавать, хотя все, кто освобождался раньше,
предлагали свои услуги. - Давай, Коллега, письмо отвезу, - Кольку
уважали в лагере за неугомонность и веселье, - чего мучаешься?
Писем не ждешь и не получаешь! Помрешь так!
- Ничего, - ответил он, - приеду - разберемся. - Писем он и
вправду не получал и даже сестрам запретил настрого писать, а
дружки и не знали, где он, да и Тамара тоже.
А сейчас сидит он в ее доме и не спрашивает у отца ее, из са-
молюбия, что-ли, ничего о ней. Пьет с ним, с Максимом Григорьеви-
чем, да перекидывается не значащими ничего фразами и напевает:
- Что вы там пьете? Мы почти не пьем.
Здесь снег да снег при солнечной погоде!
Ребята, напишите обо всем,
А то здесь ничего не происходит,
- пел Николай тихим севшим голосом, почти речитативом, напевая
нехитрую мелодию:
- Мне очень не хватает вас,
Хочу увидеть милые мне рожи,
Как там Тамарка, с кем она сейчас?
Одна? Тогда пускай напишет тоже.
- Колька нарочно Тамарка, вместо положенного - Надюха.
- Страшней быть может только страшный суд, -
Письмо мне будет уцелевшей нитью.
Его, быть может, мне не отдадут,
но, все равно, ребята, напишите.
- закончил Колька просительно и отчаянно, с закрытыми глазами
и повибрировал грифом, чтобы продлить звук, от чего вышло уж сов-
сем тоскливо.
- Ты откуда эту песню знаешь? - спросила она, когда он открыл
глаза и взглянул на нее.
- Это ребята привезли. Какой-то парень есть, Александр Кулешов
называется. В лагере бесконвойные большие деньги платили за плен-
ки. Они все заигранные по 100 раз, мы вечерами слова разбирали и
переписывали. Все без ума ходят от песен, а начальство во время
шмонов, обысков то есть, листочки отбирало. Он вроде где-то си-
дит, Кулешов этот, или даже убили его. Хотя не знаю. Много про
него болтают. Мне человек десять разные истории рассказывали. Но,
наверное, все врут. А тебе понравилось?
- Понравилось, - тихо сказала Тамара, - спой Коленька еще, -
попросила она.
- Потом! - он снова приблизился к ней, отложив гитару, и поп-
росил: - ты, может, все же поцелуешь меня, Том? !
Она не ответила. Тогда Колька сделал то, что и должен был в
подобном случае сделать - отворил он балконную дверь, перекинулся
одним махом через перила и погрозил, что разомкнет пальцы, если
она его сей же момент не поцелует в губы страстно и долго, в гу-
бы. Попросил он так, чтобы что-нибудь сказать и разрядить, что
ли, обстановку, вовсе не расчитывая, что просьбу его удовлетво-
рят. Но, неожиданно для него и для себя, Тамара подошла к нему,
висящему на перилах, и поцеловала так, как он требовал, долго и
горячо, может быть и не страстно, но горячо.
Мгновенно как-то промелькнуло в ее голове: "Вот я ему так и
отомщу - Сашке. Вот так". А он уже поднимал руки, снова тело свое
перекинул на балкон, и начал целовать ее сам, как голодный пес
набрасывается на еду, как человек, которому долго держали зажаты-
ми нос и рот, а потом дали воздуху, хватает его жадно, как...
- Запри дверь, - сказала Тамара. - Псих! Придут ведь сейчас.
Он поднял ее на руки, боясь оставить даже на миг, с ношей сво-
ей драгоценной подошел к двери и запер. Так же тихо понес ее к
дивану.
- Не сюда, - сказала она, - в мою комнату.
Она слышала, как колотится и рвется из-под ребер его сердце,
как воздух выходит из груди его и дует ей в лицо. И она обняла
его и притянула к себе, а он бормотал, как безумный - Томка! Том-
ка! - И закрывал губы ее телом, дышал ее запахом, ею всей и про-
валивался куда-то в густую горячую черноту, на дне которой было
блаженство и исполнение всех желаний, плавал в обнимку в терпком
и пахучем вареве, называемом наслаждение.
И не помнил он ничего, что случилось, потому что сознание бро-
сило его в эти минуты. Очнулся только услышав:
- А теперь, Коля, правда - уходи и никогда больше не возвра-
щайся. Слышишь? Я прошу тебя, если любишь. Сейчас мне надо одной
побыть. Не думай, что из-за тебя. Просто одной.
- Не уйду я никуда, Тамара! И вернусь обязательно! И ни с кем
тебя делить не буду. Ты же знаешь, что Колька Коллега держит
мертвой хваткой. Не вырвешься!
Вырвусь, Коля! Я сейчас сильная, потому что мне очень плохо!
- Кто-нибудь обидел? - Убью!
- Ну вот, убью! Другого нечего и ждать от тебя. И если б знал
ты кого убивать собираешься?
- Кого же?
- Я, Коля, вот уже три года с Кулешовым Сашей, которого песню
ты мне спел и который сидит или убит - все сразу. Ни то, ни дру-
гое, Коля. Живет он здесь, в театре работает, а сейчас у меня с
ним плохо.
На все, что угодно, нашел бы ответ Коллега, на все, кроме это-
го, потому что еще там, в лагере, казалось ему, что знает он это-
го парня, что встреть он его - узнал бы в толпе, что появись он
только, и стали бы они самыми близкими друзьями, если душа его
такая как песни - не может и быть иначе. Сколько раз мечтал Коль-
ка, чтобы привезли его в лагерь, да и не он один - все кругом
мечтали и хотели бы с ним поговорить хотя бы. Всего ожидал Коль-
ка, только не этого. И не зная, что и как ответить и как вести
себя не зная, встал Колька и вышел, не дожидаясь дружка своего и
Максима Григорьевича.
К О Н Е Ц
Автор: Леонид Федорчук, редактор рубрики "Прес-релізи" на ЖЖ.info
Прес-релізи | 05.01.2012 | Переглядів: 1864
Коментарів: 0