|
|
fedoОценка: 3.3/5 Голосов: 9 |
На машиночке в светленькое будущее!
На машиночке в светленькое будущее
Культурные итоги нулевых
Автор - Екатерина Барабаш
Во время последнего разговора Владимира Путина с народом все, конечно же, обратили внимание на очередные проявления его излюбленной стилистики. «Сбрить бороденки», «какая-то скотина», «свинья», «сами загнутся», «станут колом в горле». Начав десять лет назад на заре своего президентства с «мочить в сортире», Путин избрал блатную феню и показное хамство опознавательным знаком своего общения с населением. Российский премьер и его консультанты убеждены, что большая часть аудитории адекватно воспринимают такую манеру. Видимо, считают небезосновательно – аудитория охотно глотает уличную лексику премьера не потому, что ей приятны подобные лингвистические выверты, а потому, что никаких вывертов она здесь попросту не видит. Это – язык подавляющего большинства путинской аудитории.
Недавно автору этих строк позвонили с телевидения, на ток-шоу пригласили. Согласилась. На том конце провода спросили: «За вами прислать машиночку?» Оторопело: «Прислать что?» - «Машиночку». – «Нет, пришлите машину». Девушка помолчала, удивленная и даже слегка уязвленная, но явно не понимающая, что это к ней прицепились. И выдавила: «Ну да… машинку… я и говорю». Остановиться было уже трудно: «Нет, машинку тоже не надо. Можно машину?» Кажется, девушка обиделась, но старалась этого не показать и попробовала мужественно принять мои условия: «Хорошо. В 17.00 пришлем за вами… эту… машинку». Переход от «машиночки» к «машинке» стоил ей изрядных усилий. Говорить же без уменьшительно-ласкательных она, похоже, разучилась вовсе.
А скоро, кажется, вся страна разучится. Эта самая «уменьшительная ласкательность» стала настоящим монстром, монополистом на рынке словообразования. В магазине вам сделают скидочку, кондуктор в троллейбусе попросит приобрести билетики, милиционер потребует документики, дядя-доктор спросит, не болит ли глазик, и сделает укольчик... Как рассказывали, недавно экскурсовод Ясной Поляны предложил гостям пройти к могилке Толстого. Подозреваю, что этим экскурсоводом была та девушка, что оказалась не в состоянии мгновенно перейти с «машиночки» на «машину» и от душевного переутомления удалилась в Тульскую губернию.
В «Женитьбе Бальзаминова» по Островскому главный герой, закомплексованный холостяк, запущенный маменькиными амбициями в поиски богатой невесты, оказавшись во владеньях купчихи Дарьи Евстигнеевны, лебезит в ответ на ее грозный вопрос: «Отчего через забор-с?» - «От чувств-с». Невыговариваемое сочетание звуков еще больше высвечивало ту нелепую галантность, которую Владимир Даль называл «лакейской вежливостью». Это была «галантерейность», характерная для приказчиков и холопов. Ее высмеивали все, кто мог – начиная с Островского и кончая Демьяном Бедным. А большой хулиган от поэзии Велимир Хлебников – тот даже умудрился снабдить уменьшительно-ласкательным суффиксом глагол, что уж вовсе оксюморон: «Кому сказатеньки,/Как важно жила барынька?»
Согласно теории Ломоносова о трех штилях, «умалительные» возможно было употреблять лишь в «подлых» жанрах. Тем не менее писатели-сентименталисты начала 19 в. снабжали свои опусы таким количеством «умалительных», что это начало вызывать бурное отторжение у грамотных людей, и в результате весь сонм словесных рюшечек перекочевал в область иронического. Пушкин, например, любил высмеивать эту страсть к измельчению всего сущего:
Ах, сударь, мне сказали –
Вы пишете стишки,
Увидеть их нельзя ль?
Вы в них изображали,
Конечно, ручейки,
Конечно, василечек
Иль тихий ветерочек,
И рощи, и цветки.
Ушел в историю сентиментализм. С ним истлели и залегли на дно русского языка словесные рюшечки, оставшись на поверхности лишь малой своей частью, - в основном лишь там, где предполагается общение с маленькими детьми. «Ручка», «ножка», «зайчик», «носик», «игрушечка», «погремушечка» - весь этот малышовый набор вполне оправдан. В конце концов, нежность, переполняющую мам-пап-бабушек-дедушек, должна находить какой-то выход, ни малейшего вреда от нее нет, а детям нежность никогда не помешает.
И вдруг на рубеже третьего тысячелетия всплывает этот давно забытый пласт языка. «Ножка» теперь может быть принадлежностью шкафоподобного мужика, если с этой ногой он пришел, скажем, в травмопункт. У этого же детины, оказывается, больное «горлышко», которое врач попросит его открыть, чтобы исследовать «ложечкой». В соседнем магазине ему же предложат «костюмчик», «рубашечку» и «ботиночки», невзирая на тот факт, что размер «ботиночек» не меньше 45-го.Интересно, что такого изобилия уменьшительно-ласкательных суффиксов не было ни в СССР, ни еще пять-десять лет назад. Неужели вдруг с такой силой обрушилась на нас всеобщая, глобальная нежность?
Полно, никакой нежности, конечно, нет и в помине. Это таким образом торит себе путь в нашу жизнь обыкновенное хамство. «Умалительные», как называл их Ломоносов, есть не что иное, как обратная сторона хамства. Или глубинного бескультурья. Та самая, по Далю, «лакейская вежливость» царит обычно там, где нет представления об истинной вежливости. Это заменитель, эрзац. Чем шире распространяется это явление в языке, тем о меньшей вежливости можно говорить. Тем, кому культура не чужда, умеет обходиться без «скидочек», «машиночек», «билетиков», «рубашечек» и «телефончиков» - для проявлений истинной вежливости есть масса других, истинных средств. У работников сферы обслуживания любой страны (кроме России – увы) нет нужды в сюсюканьи – они воспитаны в совершенно другом отношении к человеку. Личность – неприкосновенна, всякий человек равен тебе самому, улыбка на лице обязательна, клиент всегда прав, а если и не прав, то узнать об этом должен не от вас, и улыбка обязательна все равно. Это не объясняется ни при приеме на работу, ни в процессе работы – это знают все изначально. Априори. Чем больше человек знает, тем меньше у него потребности об этом кричать. В России не знают, что надо быть вежливыми. Улыбаться умеют только тем, кто нравится, кто приятен. Кто безразличен – на того вовсе не смотрят, кто неприятен – смотрят исподлобья. Это считается исконно русской искренностью. Под вежливостью понимается подать, скажем, даме пальто. Или открыть перед ней дверь. Или сказать «пожалуйста». То есть точечная такая вежливость, а привычки к регулярной культуре общения нет. Это и есть лакейство.
Впрочем, это и не удивительно, учитывая, что история России – это история рабства. Всего через 56 лет после официальной отмены крепостного права по-прежнему феодальная Россия загремела в другое рабство, советское. Попыталась отряхнуться от него в 90-е, да не получилось. Аристократия и интеллигенция, презиравшая лакейское сюсюканье, сразу после переворота 17-го отбыла за границу, кто не отбыл – был изничтожен здесь. У детей кухарок и лакеев, оставшихся в стране, не было и не могло быть органической вежливости. Врожденная несвобода не оставляет места для уважения другого человека, и приходится латать прорехи «скидочками» и «документиками».
Укоренившаяся на уровне генов несвобода диктует языку свои правила. На каждом шагу нам дают понять, что наш дом – тюрьма. Тюрьме в России – раздолье. Она диктует свои правила воле, естественным образом осуществляя стирание границ между волей и неволей. «Здравствуйте. Заходите, присаживайтесь» – это отвратительное «присаживайтесь» вместо нормального «садитесь» теперь уже навеки. Страна, проявившая такую недюжинную, завидно неразрывную спайку политики и криминала, элиты и криминала, телевидения и криминала, жизни и криминала, не может позволить себе говорить «садитесь». От греха подальше. А недавно появившаяся и тоже, вероятно, уже навсегда укоренившаяся манера отгораживаться от живых людей неживым их наречением во множественном числе: «проходим быстренько, не задерживаемся!», «проезд оплачиваем!», «билетики показываем!» – это ведь тоже оттуда, из мест, где нет людей, а есть организованное безликое скопление элементов, к которым «западло» даже обращаться хоть как-то. Быдло и есть быдло. Выйдет с зоны – все равно быдлом останется. Поэтому нас обычно ни о чем не просят – нам запрещают, причем в категорично-императивной форме: «Машины не ставить!», «За ограждения не заходить!», «Не курить!», «По газонам не ходить!» Слово «пожалуйста» - только для личного общения. Каждый в отдельности еще куда ни шло, а все вместе мы никакого «пожалуйста» не заслуживаем.
«Прекратите базар!» – говорит интеллигентная учительница детишкам, не зная, что выражение это совсем свежее в обиходной лексике, только-только из блатняка пришло. Такие обычно-привычные «амба», «брать на понт», «грохнуть», «фуфло», «тащиться», «перетереть», «беспредел», «опустить», «разборка» – все это ничтоже сумняшеся приняли мы в язык с распростертыми объятиями. Страшно заходить в магазины – закрепленная повыше к потолку магнитола гоняет тюремный шансон. И пока ходишь, выбираешь продукты, над головой несется что-нибудь вроде: «Посмотри на это небо/Взглядом, бля, тверезым,/Посмотри на это море –/Видишь это все в последний раз».
Страна, оплакивавшая Япончика так, как не оплакивала ученых и космонавтов, видимо, заслуживает того, чтобы верхом галантности и уважения к личности были «скидочки» да ручки-ножки-горлышки».
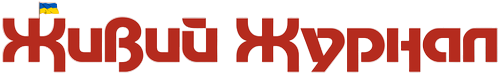
У меня вот есть книга стихотворений Мятлёва, изданная в конце 19-го века. Тоже читаю и смеюсь над тем, как тогда говорили, а ведь всё лишнее из того языка со временем само убралось:
"Фонарики-сударики, чего же вы стоите..." :-)
И с детьми мы разговариваем смягчениями. Получается, что они усиливают положительные эмоции.
А в других западных языках такого нет, в этом и отличие славянских языков от остальных.