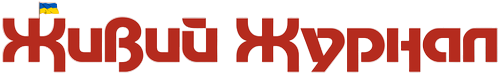| ЖЖ інфо » Статті » Україна |
Открытые раны. Как медицинский батальон «Госпитальеры» спасал Киев в первый месяц войны — в репортаже New Yorker
Автор: Оксана Загороднюк, 04.06.2022, 21:15:31
Масштабный репортаж Люка Могелсона, документирующего последствия штурмов и оккупаций под Киевом, собран из десятков личных историй. Оказавшись перед лицом войны, люди объединяются, ищут способы помочь друг другу и выживают — в прямом и переносном смысле.
Михайловский Златоверхий монастырь был построен в Киеве в начале XII века в честь архангела Михаила, возглавляющего воинство ангелов. Приказ о его возведении отдал православный князь в честь победы над половцами. Монастырский комплекс, известный своим златоглавым собором, сильно пострадал во время монгольского нашествия, затем был восстановлен, а в 1930-е годы был разрушен советскими властями. После распада СССР монастырь отстроили заново.
1 марта я вместе с подругой Анастасией Фомичевой пошел к Михайловскому монастырю. Люди в форме и с автоматами охраняли периметр и ворота. Анастасия подошла к ограде, через которую был виден храм. Она склонила голову, а когда выпрямилась, на глазах у нее были слезы. Я спросил, о чем она молилась. Она ответила: «О моей стране, моем городе и моей семье».
Мы познакомились несколько лет назад в Париже. Анастасия работала вместе с моей женой в научном объединении, связанном с Европейским исследовательским советом. Она политолог, большую часть жизни прожила во Франции, хотя родилась в Киеве и часто туда наведывалась. Когда 24 февраля началось российское вторжение, я сразу ей позвонил — справиться о ее родных. Одной из целей вторжения была украинская столица, и туда уже прилетали ракеты. Анастасия тогда собиралась ехать в Киев и позвала меня с собой.
Два дня спустя я приехал на площадь Италии в 13-м округе Парижа к 7:30. Рядом с выходом из метро стоял автобус, люди загружали в багажное отделение коробки с едой и прочими припасами. Анастасия стояла неподалеку с рюкзаком и курила. Все последние годы она ездила домой на этом автобусе: водитель-украинец отправляется в Киев по воскресеньям, дорога занимает больше 30 часов, но билет стоит всего 80 евро. Обычно в автобусе сидят иммигранты, которые едут на родину к родственникам и друзьям, но на сей раз внутри в основном молодые люди, которые едут за родину сражаться.
После начала российского вторжения президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну. Украинцы, которые к тому моменту были за рубежом, разумеется, могли там и остаться, но в нашем автобусе все места были заняты. Через проход от Анастасии сидел 33-летний строитель Петр, который уже восемь лет живет во Франции. Теперь он ехал в родной Ивано-Франковск, по аэропорту которого совсем недавно метили российские ракеты. Он собирался провести ночь у родителей, а потом идти в военкомат.
Мы ехали через Люксембург и Германию. Водитель останавливался каждые четыре-пять часов, пока он заправлялся, мы могли сходить в уборную и купить еды. Петр не ел и не спал; чем ближе мы подъезжали к Украине, тем более напряженным он казался. Он никогда в жизни не стрелял из оружия. «Я не знаю, куда меня отправят, — сказал он на середине пути через Польшу, руки у него дрожали. — Я не знаю, что со мной будет». Застыдившись выступивших на глазах слез, он пояснил: «Не все к такому готовы».
Победа российской армии, с ее превосходством в численности и огневой мощи, многим тогда казалась неизбежной. Сотни тысяч украинцев уезжали из страны. Настроения в нашем автобусе были мрачные — каждый обдумывал свое решение вступить в сопротивление, которое, вполне возможно, обречено.
Мне тоже страшно, но мы должны бороться
Анастасия сказала Петру, что тоже собирается пойти на войну. Хрупкая блондинка 28 лет с широкой улыбкой на приветливом лице источала искренний оптимизм: «Мне тоже страшно, но мы должны бороться». Петра заметно подбадривала ее уверенность в правильности своего решения.
В середине следующего дня мы добрались до польско-украинской границы. Вереницы женщин, детей и стариков с пожитками выстроились в противоположном от нас направлении. Наш водитель не мог довезти нас до Киева и высадил во Львове, на 500 километров западнее. Мы с Анастасией попрощались с Петром и пошли на вокзал. Снаружи сотни людей толпились у палаток, где молодые волонтеры в неоновых жилетах раздавали горячий суп и чай. Главное здание вокзала было битком набито беженцами, укутанными в теплые куртки, спящими на скамейках или прямо на полу, на холодной плитке.
Чемоданы и коляски перегораживали проход. Большинство ждало поездов на запад и на юг. Ближайший поезд на Киев отправлялся в полночь, и Анастасия пошла купить продуктов для отца и мачехи. Ходили слухи, что киевляне, опасавшиеся долгой осады, опустошили все магазины. Я сбегал за сигаретами, а когда вернулся, обнаружил Анастасию в компании двух пожилых мужчин, которые пили пиво и водку. Они только что перевезли своих жен и дочерей во Львов из Мариуполя и собирались возвращаться туда, чтобы воевать. Настроение у них было приподнятое, дух боевой.
Киев. Начало марта
Наш поезд прибыл в Киев на следующее утро. Мы поймали такси и поехали в квартиру, которую Анастасия еще до войны сняла на весь март. Квартира была на Андреевском спуске, брусчатой улице с множеством кафе, баров и галерей. Обычно здесь толпы туристов, уличные музыканты, но теперь спуск опустел, как и весь припорошенный снегом город. Многие прятались в метро, спали прямо на платформах и в вагонах. Остальные укрывались в подвалах или просто запирались в квартирах. Тишину и всеобщее оцепенение только подчеркивал медленный вой сирен воздушной тревоги, а еще карканье ворон. Когда мы проходили мимо деревьев, занятых стаей крикливых птиц, Анастасия сказала: «Никогда такого раньше не видела». Квартира ее отца была совсем рядом, и по пути мы наткнулись на небольшой памятник знаменитому украинскому баритону Василию Слипаку.
Анастасия познакомилась со Слипаком во Франции через сеть местных активистов. В последний раз они виделись на акции протеста в Париже в июне 2016 года: у нее были каникулы в Сорбонне, а он готовился вернуться в Донбасс. Две недели спустя его убил российский снайпер. «После его гибели я стала совсем по-другому смотреть на войну, — говорила Анастасия у памятника на Андреевском спуске. — Она стала осязаемой, и я поняла, что должна туда поехать». Через месяц она поехала с группой, которая везла пожертвования — продукты, пауэрбанки, генераторы — боевым подразделениям на фронт. На передовой она познакомилась с водителем скорой, который показал ей со своего телефона видео эвакуации раненых. «На меня это произвело огромное впечатление, и я поняла, что делаю недостаточно», — вспоминает Анастасия. Она сказала водителю, что хотела бы стать медиком, но опыта совсем нет. Он дал ей контакты организации, где могли помочь, — медицинского батальона «Госпитальеры».
В 2017-м, когда Анастасии было 23 года, она прошла недельный курс подготовки на базе «Госпитальеров» на юге Украины. В перерывах между учебой она стала ездить в Донбасс. Вялотекущий тогда конфликт переживался особенно тяжко. Первый раненый, которого эвакуировала Анастасия, — солдат, повредивший руку при попытке самоубийства. Мины, снаряды и пули убивали или ранили других. «Большинство младше меня», — записала она тогда в дневнике. Она боялась, что их смерти «вообще ничего не изменят».
Летом 2020 года, после поездки в Донбасс во время пандемии, она решила полностью сосредоточиться на учебе во Франции. «Я думала, что война для меня позади», — говорила Анастасия, но теперь снова собиралась вернуться к «Госпитальерам». Главной ее целью было повидать отца и убедить их с женой перебраться за границу. Когда мы уходили от памятника Слипаку, на северных окраинах города гремела канонада. 15 тысяч российских солдат и 60-километровая колонна из сотен танков и бронетехники надвигалась на столицу.
Большинство западных аналитиков прогнозировали, что Киев быстро окружат и блокируют, а затем начнут уничтожать артиллерией. Американская разведка утверждала, что российские войска могут взять город за два-три дня. Украинский посол в Германии позже рассказал газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что немецкий министр финансов категорически отказал ему в военной и прочей помощи со словами: «У вас есть всего несколько часов».
Мэр Киева вскоре объявил, что из трех миллионов жителей город покинула половина. Остались самые упрямые и отважные, те, в ком теплилась надежда, самые беспечные и самые бедные. Отец Анастасии Сергей не был беден. Он встретил нас в узорчатом халате, окутывавшем его полное тело. Он немного выпил, на щеках у него играл румянец, и дочь он приветствовал так радостно, будто она приехала домой на каникулы. Когда мы сели за стол на кухне и Анастасия стала уговаривать его с женой Иреной уехать, он переменился в лице.
«Я никуда не поеду», — сказал Сергей.
Ирена, которая тоже была в халате, стала уверять Анастасию, что они могут постоять за себя: у них ведь есть старинное охотничье ружье и три патрона. Из большого телевизора ведущий новостей рассказывал про Путина. Ирена покачала головой. Как и многие украинцы, они с Сергеем были ошарашены решением российского президента начать вторжение. Она сказала, что Путин — одержимый.
Когда мы вышли из дома, Анастасия сказала, что хочет зайти помолиться в Михайловский собор, он всего в нескольких кварталах. Она искренне верующий человек: как только мы приехали в ее временную квартиру, первым делом она достала из рюкзака маленькую иконку Девы Марии и поставила ее на подоконник.
Украинская православная церковь была категорически против российского вмешательства во внутренний конфликт и поддержала Революцию достоинства. Михайловский монастырь стоит на холме, с которого можно спуститься к майдану Незалежности, и во время протестов 2014 года он стал убежищем для многих протестующих. Священники и врачи-добровольцы помогали раненым демонстрантам и кормили их. Погибших тоже приносили туда, чтобы друзья могли с ними проститься. Теперь перед собором стоит памятник тем, кто погиб во время протестов, и стена памяти с фотографиями тысяч солдат и добровольцев, погибших в Донбассе. У подножия стены в гильзах от артиллерийских снарядов, как в вазах, стоят цветы.
После того как Анастасия помолилась у монастырской ограды, мы вернулись в ее квартиру. Она злилась на отца и мачеху, но смирилась с тем, что они свое решение приняли. Анастасия написала одному из медиков-«госпитальеров», спросила, где они теперь собираются. Тот ответил: в Михайловском монастыре.
Из Михайловского монастыря в Ирпень
На следующее утро нам открыли монастырские ворота. Внутри кипели приготовления. Повсюду бегали мужчины и женщины в камуфляжной форме; священники в черных рясах выгружали коробки из грузовиков и микроавтобусов; в аудитории, где обычно семинаристы слушают лекции по богословию, солдат проводил занятие по базовой огневой подготовке для волонтеров, которым только что раздали автоматы. В коридорах, увешанных портретами митрополитов минувших веков, раздавались громкие команды.
Анастасия встретилась с командиром «Госпитальеров» Яной Зинкевич в маленьком кабинете, набитом людьми, которые хотели с ней поговорить. 26-летняя Зинкевич вся покрыта татуировками, у нее проколота бровь, а волосы розово-голубых оттенков. Она сидела в инвалидном кресле. В 2014 году, когда она еще в нем не нуждалась, едва окончившая школу Зинкевич отказалась от планов получить медицинское образование и пошла добровольцем на войну. «Лечить раненых было некому, — позже рассказала она. — Я поняла, что должна что-нибудь с этим сделать». Она выучилась оказанию первой помощи и стала помогать раненым. Как-то ночью в блиндаже во время сильных обстрелов капеллан рассказал ей историю средневекового католического ордена рыцарей-госпитальеров. На следующий день Зинкевич решила создать собственный батальон.
Началось все с шести добровольцев и небольшой машины-пикапа, позже она купила микроавтобус Volkswagen. Зинкевич организовала больше двух сотен эвакуаций с линии фронта, а в конце 2015 года попала в аварию, ее парализовало ниже пояса. Через несколько месяцев она узнала, что беременна. Вопреки ожиданиям врачей, она родила дочь без осложнений при родах. За эти годы она обучила сотни «госпитальеров», которые помогли тысячам раненых. В 2019 году ее избрали в Верховную раду от партии «Европейская солидарность».
Зинкевич послала Анастасию в один из монастырских корпусов, где ей выдали военную форму, бронежилет, перчатки, нижнее белье, термоноски, налобный фонарь, складной нож и спальник. Касок пока не было. Анастасия пошла в уборную, чтобы переодеться, и вернулась уже не "по гражданке", с джинсами в руках — ее саму удивило, как быстро менялся ее мир. «Нереальное ощущение, — сказала она мне. — Как будто во сне. Или в кошмаре».
На лестнице были сложены бинты, марля, упаковки с физраствором, шприцы, носилки, лонгеты и прочее медицинское снаряжение. В коридорах громоздилась пожертвованная еда: картошка, банки с соленьями, колбаса, консервы. Трапезную переоборудовали под казарму, десятки матрасов положили прямо на столы. На кухне медики стояли в очереди за борщом и кашей. Со многими из них мне предстояло познакомиться: профессор экономики, зубной врач, виолончелист, криптовалютный трейдер, тренер по ножевому бою, танцовщик балета, множество студентов, режиссер, фермер, психолог, несколько журналистов.
Опасаясь преследований со стороны россиян, большинство представлялись позывными. Я нашел свободный матрас через проход от Италии, фельдшерицы и матери-одиночки, которая уехала в Милан 20 лет назад. Когда началась война, она на автобусе вернулась в Киев, а ее 23-летняя дочь осталась. «Она меня очень поддерживает», — радовалась Италия. Дочь помогает украинским беженцам, которых в Европе уже больше пяти миллионов.
Киев не пал
Киев устоял. Шквал украинской артиллерии и отчаянные вылазки остановили российское наступление. Анастасию и Италию направили в полицейское училище рядом с аэропортом, где они обучали сотрудников первой помощи и эвакуации раненых. Журналистов туда не пускали, но «госпитальер» с позывным Август, с которым я сдружился, позвал меня съездить с ним на скорой в Ирпень, откуда на фоне ожесточенных боев пытались выбраться местные жители.
Август, 24-летний аудитор из Киева, всегда восхищался военными. В сериале американского HBO «Братья по оружию» больше всего ему нравился санитар Юджин Роу по провищу Док. В 2017 году Август прошел такой же недельный курс, как и Анастасия; большую часть своих отпусков он проводил в Донбассе, где научился обращаться с автоматом и стрелять из миномета. В нем чувствовалась нетерпеливая жажда действия, которая свойственна молодым солдатам, еще не измотанным военной рутиной. Из разгрузки у него торчал рожок, на котором он написал фломастером по-английски FUCK DAY. А еще он повязал фиолетовую ленточку, которую дала ему на удачу бывшая девушка, «госпитальерка» Аня. На бронежилете была нашивка — логотип производителя походной одежды Patagonia, только вместо имени бренда была надпись Donbasonia.
В машине скорой нас было пятеро. На пути из Киева пришлось проехать пять блокпостов. Добровольцы набивали мешки землей с обочины и валили бензопилами деревья, чтобы укрепить бревнами противотанковые ежи. Вцепившись в свой автомат, Август уставился в окно, напряженный и завороженный происходящим.
«Госпитальер» Орест сидел на носилках и читал с планшета «Крошку Доррит» Диккенса. Оресту 36 лет, он арборист, увлеченный альпинист и отец пятерых детей. Он рассказывал, что всего неделю назад был в горном походе недалеко от границы с Румынией. Связи почти не было, но на одной из вершин ему все-таки удалось поймать сигнал, и он прочитал новости. Два дня он шел до ближайшей деревни, а оттуда на поезде добрался до столицы. Он давно собирался в арктическую экспедицию и планировал купить однозарядную винтовку, чтобы защищаться от белых медведей. Вернувшись в Киев, он купил AR-15.
«Экспедицию пришлось отложить», — констатировал Орест.
Чтобы российские военные не прорвались в Киев, украинцы уничтожили главный мост через реку Ирпень. Отдельные здания на южном берегу пострадали от обстрелов, от которых погибли несколько гражданских, пытавшихся покинуть город. К северу раздавались взрывы, над соседним киевским пригородом Бучей поднимались клубы дыма. Российские войска там застряли, и из Бучи прибывали толпы мирных жителей.
Они бросали машины прямо у развалившегося моста, сползали с высокой набережной к бурному ледяному потоку внизу и ступали по хрупкой переправе, наскоро сделанной из палет и бревен. На другой стороне уже ждали автобусы, которые везли беженцев в центр Киева. Люди переходили реку по одному, тащили сумки и чемоданы, некоторые прижимали к груди собак, кошек или младенцев. Старики и старушки с палками и ходунками осторожно нащупывали шаткие доски, прежде чем сделать шаг.
Многие пожилые, больные и раненые мирные жители вовсе не могли пройти по переправе. Август, Орест и еще несколько «госпитальеров» начали переносить людей через реку на носилках. Шесть часов они ходили с одного берега на другой, грузили десятки людей в скорые, которые везли их в киевские больницы. Изможденные солдаты, возвращавшиеся с линии фронта, тоже шли по переправе. В какой-то момент появилась группа, которая вела пленного: черный капюшон закрывал его лицо, руки были связаны спереди, куртка в крови.
Люди, собравшиеся у моста, были в ярости и отчаянии. «Чтоб он сдох!» — кричала хромающая бабушка в ярком платке, пока Август помогал ей спуститься к воде. Она имела в виду Путина. «Он фашист! Он ублюдок! Даже не ублюдок — животное!». Другая женщина, которая отправилась в путь в спортивном костюме, тапочках и с маленькой сумочкой, сказала Августу: «Они у леса. Если надо, можете разбомбить наши дома. Просто убейте их».
Большинство гражданских — женщины. Многие мужчины Ирпеня и Бучи остались, чтобы ухаживать за животными, защищать свои дома, помогать соседям или просто из чувства долга. Днем двое муниципальных служащих на машине привезли свои семьи. У маленькой девочки рюкзак с феей Динь-Динь и плюшевый единорог из «Моего маленького пони» в руках. Мужчины провожают родных до конца переправы. «Слушайтесь маму, — говорит первый, целуя и обнимая детей. — Ведите себя хорошо». Второй уходит, пряча слезы. Он не в состоянии попрощаться. Вдруг он останавливается и кричит: «Лева!». Его сын-подросток поворачивается, и мужчина бежит к нему — обнять.
Ближе к вечеру приехал микроавтобус с двумя пожилыми женщинами. Одна из них отказывалась выходить.
— Надо идти, — кричит на нее подруга. — Может, мы не увидимся больше. Ну же, пойдем. Пойдем!
— Я хочу домой.
— Пожалуйста, выходите из машины, — говорит ей «госпитальер».
— Не уговаривайте. Я хочу домой, и все.
Когда «госпитальеры» спрашивают, кто еще живет в ее доме, она отвечает, что живет одна.
— Знаете, кто вас там будет ждать? — говорит Август. — Русские, вот кто. И что вы тогда будете делать?
Женщина непреклонна:
— Мне 82. Дай бог вам столько прожить.
Ее подруга уже скрылась из вида. Подъезжают новые машины.
— Отвези ее обратно, — говорит Август водителю. — Надо другим помогать.
Микроавтобус разворачивается и едет в сторону дымящегося города.
Горенка
Большинство добровольцев, пошедших на войну, оказались в рядах территориальной обороны. В Михайловском монастыре я разговорился с врачом-физиотерапевтом средних лет: он рассказал, что всю ночь просидел в военкомате, но наутро его отправили домой. Тогда он решил пойти к «госпитальерам». Другие сбивались в группы на ходу: делали коктейли Молотова, шили камуфляжные сетки, строили баррикады, развозили еду. В Киеве я познакомился с молодым управляющим бара, который вместе еще с двумя сотнями коллег — поварами, официантами, баристами — готовил тысячами порций еду для солдат и мирных жителей, остававшихся в городе. Военным не хватало бронежилетов, и пока война затягивалась, управляющий нашел цех и оплачивал выпуск бронежилетов из своего кармана.
У некоторых боевых соединений заканчивался медицинский инвентарь. В Михайловском монастыре Анастасия часами собирала индивидуальные аптечки для пехоты: бинты, жгуты, тактические ножницы, термоодеяла, давящие, гемостатические и окклюзионные повязки. Все это либо прислали из Европы, либо купили сами «госпитальеры». Как и машины скорой помощи — по надписям на кузове можно было понять их происхождение: ambulanza, ambulancia, ambulans.
Аня, бывшая девушка Августа, которая дала ему ленточку на удачу, заведует денежными сборами. Когда началась Революция достоинства, она училась в Киевской консерватории по классу скрипки. На Майдане полицейский сломал ей руку. «Я всю жизнь играла на скрипке — дни напролет, с четырех лет», — вспоминала Аня. Перелом положил конец ее музыкальной карьере. Год спустя она записалась в добровольцы в Донбасс.
Деньги она собирает через знакомых в украинской диаспоре и соцсети. Как-то раз, во время переговоров о поставке пяти тысяч жгутов со швейцарским производителем она сказала: «Все, жгуты в Швейцарии кончились!».
Бои на окраинах столицы продолжались, и «госпитальеры» устроили на передовой несколько «пунктов стабилизации». Там военные и гражданские получали первую помощь (в основном — остановка кровотечения и внутривенные вливания) перед отправкой в киевские больницы. В первую неделю марта я поехал с Августом и Орестом в село Горенка на окраине Киева, где «госпитальеры» подыскивали место для одного из своих пунктов. Горенка граничит с Бучей и подвергалась тяжелейшим обстрелам: пока мы ехали, обгоняя украинские танки и бронемашины, прямо перед нами на дороге разорвался минометный снаряд.
Нашу скорую тряхнуло, и пришлось на какое-то время развернуться. Когда мы добрались до места, было уже темно. Небо рассекали яркие линии. Украинские ракеты взрывались в соседнем лесу. Мы примкнули к отряду теробороны, который расположился в пустующем детском санатории. Добровольцы выглядели не слишком впечатляюще — уже немолодые, некоторые явно не в лучшей форме, — но они сказали мне, что готовились к этому моменту предыдущие семь лет.
Они ходили в «гражданский снайперский клуб», собравшийся в 2015 году. В ожидании расширения боевых действий в Донбассе они собирались по выходным и практиковались в стрельбе, учились выживанию в природе, полевой медицине и даже «тактическому альпинизму». Друг о друге они ничего толком не знали, даже имен. Я этому очень удивился, но один из них, неуклюжий мужчина в черной водолазке, ответил: «Мне-то просто, я вообще геймер».
Мне знаком этот тип людей. Впрочем, от американских выживальщиков и участников инициатив по самообороне всевозможных сортов их отличало то, что катастрофический сценарий, к которому они готовились, не был плодом больного воображения.
Геймер в водолазке так мне и сказал: «Мы просто проснулись 24 февраля и поняли: "Так, ну вот и оно. Началось"».
Похожие люди встречались и среди «госпитальеров». Когда мы вернулись в Михайловский монастырь, один из вновь прибывших — борода-эспаньолка, очки в тонкой оправе, короткая стрижка — распаковывал рядом с моим матрасом гору своего тактического снаряжения; многие вещи были в заводской упаковке и с ценниками. Он родился в Киеве, но жил в канадском штате Альберта — у него был позывной Канада. Съездив в 2016 году в Донбасс, он понял: «Такое может произойти где угодно». Дома в Альберте у него была дюжина ружей, тысяча патронов, пластиковые контейнеры с провизией и апгрейднутая своими руками любимая «патрульная машина» — джип с усиленным кузовом, мощной лебедкой на восемь тонн и стойками для оружия. Еще он копил на солнечные панели; они с женой планировали уйти в лес, когда все пойдет прахом.
Если бы мы встретились в Северной Америке, мировоззрение Канады, наверное, показалось бы мне параноидальным и апокалиптическим. В Украине все иначе: многие аналитики всерьез допускали возможность использования Россией ядерного оружия. В Запорожье российские военные напали атомную электростанцию, и на территории начался пожар. Наступление на Киев проходило в том числе через чернобыльскую зону отчуждения, где солдаты рыли окопы в радиоактивном лесу.
Жена Канады тоже украинка. Ее родители и брат оставались в Мариуполе, где уже не было света, тепла и воды, начались проблемы с едой. На следующий день после нашего знакомства с Канадой, российская авиация ударила по родильному отделению мариупольской больницы. Телефоны его тестя и тещи больше не работали.

Харьков
Обстановка в Мариуполе была предельно мрачная, но российские войска атаковали гражданские объекты по всей Украине, едва ли не чаще всего — в Харькове. 16 марта я поехал туда с фотографами. Обстрелы уничтожили несколько кварталов в центре города. Офисы, магазины, рестораны, кафе, здание университета и легендарный паб, названный в честь Эрнеста Хемингуэя, лежали в руинах, кое-где покрытых толстым слоем льда из-за разрывов труб водоснабжения.
Перед огромным шестиэтажным зданием городской администрации, которое устояло после попадания ракеты, зияла огромная воронка. Вторая ракета попала в подвал, где была кухня. Погибли несколько женщин. Рядом лежала верхняя часть черепа. Пожарные с лопатами прочесывали руины в поисках тел. Боец теробороны с позывным «Айти» сказал, что нашли уже 24 трупа. Он был в здании горадминистрации, когда прилетели ракеты: «Не знаю, как я выжил». До войны «Айти» жил в Харькове и работал разработчиком — его поразило, как быстро все погрузилось в хаос. «Две недели назад мы ругались с женой, я ей говорил, как мне скучно жить, — в его голосе слышится горькая ирония, он смотрит на обугленные машины, завалы, разрушенные дома и, кажется, не может уместить это все в голове. — А теперь я будто в компьютерной игре».
Час спустя обстреляли рынок в нескольких километрах от нас. Когда я туда приехал, пожарные тушили ряды торговых палаток. Вокруг не было ничего даже отдаленно напоминающего военную цель. Я снимал разрушения на видео, и тут совсем рядом со мной упал еще один снаряд. Взрывом и осколками ранило женщину, живот был весь в крови, и ее быстро погрузили в скорую. Такие «двойные» удары были очень распространены в Сирии: войска Башара Асада и их российские союзники регулярно обстреливали прибывающих на место взрыва врачей и спасателей, чтобы деморализовать население. Подчинение через устрашение.
Эта стратегия очевидно использовалась и в Украине. В тот же день Россия разбомбила мариупольский драмтеатр, где укрывались мирные жители. На стоянке перед театром была огромная надпись «ДЕТИ». Сотни человек погибли. А еще день спустя в Харькове обстреляли один из крупнейших рынков Восточной Европы. До войны там работали тысячи людей. Весь рынок был охвачен пламенем, небо заволокло черным дымом.
На следующее утро, когда я завтракал в фойе своей гостиницы, здание содрогнулось от взрыва. Стеклянный фасад вогнулся и выгнулся, и мы все повскакивали с мест. Целью удара был Институт госуправления неподалеку. Мы приехали туда одновременно со спасателями. Целое крыло здания превратилось в груду бетонных обломков, гнутой арматуры и искореженных стальных балок. Рядом лежало тело мертвого мужчины. Еще один мужчина, покрытый густым слоем пыли, выбирался из подвального этажа.
Рядом пожарный в белом шлеме и огнеупорном костюме прислушивался к крикам, доносящимся из узкого разлома. «Слышите меня? — кричал он. — Воздух есть? Дышать можете?» Другой спасатель махал в паре метров: «Он где-то тут!»
Застрявший под обломками мужчина был из теробороны, однополчанин смог дозвониться до него по сотовому. Он был в ванной в подвале института, чистил зубы, когда здание обвалилось. Боец теробороны передал трубку пожарному: «Как вас зовут? Вы стоите или сидите?» Потом он стал объяснять: «Найдите несущую стену. Внешнюю стену! Сядьте, облокотитесь на нее, прижмите колени к груди».
Кто-то сказал: «Придется разбирать обломки руками». Спасатели взобрались на руины и стали по очереди орудовать кувалдами и болгарками. Послали за подъемным краном. Как только он приехал, солдат начал кричать нам, что нужно уходить — будет еще удар. Все побежали. В поисках укрытия пожарные стали выбивать дверь в здании напротив. Один из них тщетно пытался вскрыть ее ломом. Второго удара так и не последовало, и в итоге спасатели вернулись к работе. При помощи крана они убирали огромные бетонные блоки. Было уже довольно поздно, и мы решили ехать обратно, в Киев.
По пути мы остановились в небольшом городке, где предыдущим утром российская авиация разбомбила школу. Во дворе группа учителей осматривала развалины. «Я услышала самолет, а потом — взрыв», — вспоминала Ярослава, учительница английского, которая и сама раньше училась в этой школе. Она сказала, что украинских солдат поблизости нет. Несколько учителей бродили по разрушенному классу. «Мы спасаем все, что можем», — пояснила Ярослава.
Позже я узнал, что того мужчину из-под развалин института спасли. С ним был знаком один «госпитальер» из Харькова, который показал мне видео, как он уходит от разрушенного здания. Он провел под бетонными обломками восемь часов. Куртка и лицо у него были в крови. Кто-то спросил, как он себя чувствует. «Лучше не бывает, — отвечает он. — Но от сигаретки бы не отказался».
Из Горенки в Киев
Эту женщину ранило при обстреле местной пожарной части, что была через дорогу от ее дома, в нескольких кварталах от пункта «госпитальеров». На следующее утро я туда поехал. Пожарная часть еще дымилась, земля вокруг была изрыта воронками. Начальник части Василий Оксак наблюдал, как его подчиненные поливают из шлангов рухнувшие стены и крышу. Казалось, удар он принял спокойно. По его словам, противник разрушил почти все государственные здания в округе. За пару дней до этого разбомбили детский санаторий, где мы были с Августом и Орестом.
Когда я вернулся на стабпункт, приехала группа военных на джипе. Одного из них ранило при артобстреле. Пока «госпитальеры» осматривали ранение боец по имени Роман Шуляр рассказал мне, что они все из местной теробороны. Сам он был юристом, и еще три недели назад занимался сделками по слиянию и поглощению. «Мы не профессиональные военные, но мы держим свои позиции», — сказал он.
Вторым пациентом из их отряда был сантехник лет пятидесяти. Во время бомбардировки у него подскочило давление и начались проблемы с сердцем. Пока медики давали ему кислород и обрабатывали раны его товарища — бывшего полицейского, — Шуляр рассказывал мне: «Ни один из нас не покинул пост. Никто не убежал». Позже мы с ним созванивались, и он сказал: «Если один раз почувствуешь себя солдатом на фронте, обязательно захочешь вернуться. Захочешь принести пользу стране».
Кажется, это чувство двигало многими «госпитальерами», с которыми мне довелось общаться. Впрочем, некоторые подразделения, в которых они состояли раньше, были объектом критики как в Украине, так и за ее границами. Мамонт служил в Донбассе в батальоне «Азов», а Юзик как-то вечером показал мне татуировку у себя на груди: медицинский крест и слова «ПРАВИЙ СЕКТОР». «Азов» и «Правый сектор» появились во время Революции достоинства, в них входили демонстранты, которые первыми начали открытое противостояние с полицией. Обе организации воевали на востоке.
Среди их членов были ярые националисты, которым были близки воинственный дух и ура-патриотизм; другие вступали туда не по идеологическим причинам, а потому, что их привлекала дисциплина и храбрость батальонов. После революции украинская армия, разлагавшаяся годами от коррупции, была в плачевном состоянии. Для таких людей, как Мамонт или Яна Зинкевич (основательница «Госпитальеров» недолго была в составе «Правого сектора», когда отправилась в Донбасс после школы), добровольческие силы были привлекательной альтернативой армейской службе.
Многие украинцы категорически не согласны с негативными коннотациями слова «националист» и отвергают связь с «фашизмом»: для них история страны во многом определяется тем, что Россия отказывает ей в праве на существование. Если в Америке и в Европе национализм обычно предполагает преследование внутренних врагов — маргинализированных групп, меньшинств среди населения страны, — то для Юзика и Мамонта главным было противостоять врагу внешнему. Большая часть батальона «Азов», в том числе бывший взвод Мамонта, обороняла Мариуполь. К середине марта один из его друзей уже был убит, а отец этого друга погиб, защищая Харьков. Мамонта возмущало, что среди жителей Украины еще остаются те, кто не понимает, откуда исходит подлинная угроза тирании.
Лидеры батальона «Азов» и «Правого сектора» действительно проповедовали шовинизм и нетерпимость. Некоторые из них не скрывали своего антисемитизма, гомофобии и расизма. В 2010 году Андрей Билецкий, который впоследствии стал первым командиром «Азова», заявлял, что хочет «повести за собой белые народы всего мира в последний крестовый поход за свое существование». А основатель «Правого сектора» Дмитрий Ярош в 2015 году говорил, что гей-парад в Киеве — это «плевок на могилы тех, кто погиб в борьбе за Украину». Но в целом такие настроения в Украине распространены куда меньше, чем в России — или, к примеру, в США. Ярош баллотировался в президенты в 2014 году, но получил меньше 1% голосов. В 2019-м блок «Правого сектора» и ветеранов «Азова» не смог получить ни одного места в Верховной раде. А на президентских выборах тогда уверенно победил Владимир Зеленский, русскоговорящий еврей, у которого прадедушка и прабабушка погибли во время Холокоста.
Валерий Зукин, директор роддома, где мы расположились, тоже еврей. Он сам предложил Юзику и «Госпитальерам» занять здание. Как-то раз он к нам заезжал и рассказал, что сам родом из Донецка. Его семья, как и многие другие евреи, уехали оттуда в 2014 году, после того как к власти пришли пророссийские сепаратисты. «Уровень антисемитизма стал просто невероятный», — сказал Зукин. А когда я начал говорить о том, что антироссийские силы называют неонацистскими, он отрезал: «Это полная хуйня».
На вторую неделю своего пребывания в Киеве я поехал к высокому многоквартирному дому, в который попали две российские ракеты. Внизу собралась толпа, которая наблюдала за работой пожарных. Я разговорился с Алексеем Прокоповым, которые снимал комнату в университетском общежитии по соседству. Прокопов родился и вырос в Луганске, и хотя он уехал оттуда в 2014 году, его брат остался. «Я с ним больше не общаюсь, — сказал мне Алексей. — Он восемь лет смотрел российское телевидение и теперь верит всему, что говорит Россия». А потом, не столько раздраженно, сколько грустно добавил: «Если смотреть эти программы каждый день, то, да, начинаешь всему этому верить».
Родители Прокопова переехали в Луганск с Кубани после свадьбы. Они умерли еще до Революции достоинства, но Алексей рассказал мне, что мама ему недавно приснилась. «Я так обрадовался, когда ее увидел, — вспоминает он. — Я сказал: "Мам, иди сюда, посиди со мной"». Но прежде чем они смогли толком поговорить, Прокопова разбудил взрыв. Он открыл глаза и услышал звук сирены воздушной тревоги: «Но я продолжал говорить с ней. Я сказал: "Мам, это ведь твоя родина. Как это возможно, чтобы они такое с нами творили?"»
Когда ракеты попали в соседний дом, Прокопов тоже спал. Проснулся он от того, что на лицо ему посыпались осколки стекла из окна. Он выбежал на улицу и увидел пожилую женщину, полуодетую и босую, которая пыталась спастись из горящего здания. Этот эпизод он вспоминал так же тревожно и торопливо, как прерванный сон о матери, и я начал подозревать, что они могут быть связаны.
Когда я спросил Прокопова, как мать смотрела бы на нынешнюю ситуацию — его глазами или глазами брата, — он ушел от прямого ответа. «Она была хорошей женщиной, — сказал он. — Она любила искусство, поэзию. Она учила вместе со мной стихи о Великой отечественной — о русских героях и о русских женщинах, которые воевали с немецкими фашистами». Он не отрываясь смотрел на клубы дыма и всполохи пламени. Казалось, он сам себя пытался убедить, что это не сон. «А теперь война тут, — продолжил он. — Но фашисты не немцы. Фашисты — русские».
Тростянец
Украинское контрнаступление, которое развернулось, пока мы с Анастасией были в роддоме, сыграло решающую роль в битве за Киев. Сколь бы разрушительными ни были российские бомбардировки, ответный огонь был сильнее. Страны НАТО, воодушевленные стойким сопротивлением Украины, решились на поставки огромных партий вооружений. К середине марта США уже выделяли миллиарды долларов на противотанковые средства и системы ПВО, радары, артиллерийские снаряды, вертолеты, беспилотники, гранатометы и прочую военную технику. Позже они даже начали поставлять гаубицы, дальнобойные орудия вроде тех, которыми утюжили сирийскую Ракку.
Украинские войска, с которыми инструкторы НАТО работали все время конфликта в Донбассе, использовали этот арсенал исключительно умело — и не только в Киеве. Надвигались масштабные перемены. К концу марта российские войска отступили из Тростянца, города на северо-востоке страны, который месяц прожил под оккупацией. Я приехал туда несколько дней спустя. Ухоженная главная площадь превратилась в грязный пустырь, усеянный остовами российских танков и бронетранспортеров. Посреди завалов памятник героям Второй мировой, советский танк стоял нетронутым на своем постаменте. На табличке с серпом и молотом написано, что монумент посвящен советскому батальону, который захватил железнодорожную станцию и отрезал немцев от снабжения.
Военные, которых я встретил в Тростянце чуть позже, рассказали, что украинские войска почти полностью окружили город и оставили российской армии только одну дорогу для отступления и простой выбор: уйти или умереть. По оценкам солдат, ушло около 150 единиц техники. Когда я спросил, велись ли переговоры об отступлении, они сказали, что это вопрос к вышестоящему начальству. Впрочем, один из них добавил: «Судя по всему, была какая-то сделка. Иначе мы бы их просто так не отпустили».
Двое железнодорожников закрашивали букву «Z», которую русские нарисовали на эвакуаторе, принадлежавшем железнодорожному оператору «Укрзалізниця». Сама станция была на другом краю площади; по пути туда я встретил мужчину средних лет, который вел по грязи велосипед. Он шел проверить, правда ли, что дом его дочери разрушен. Его звали Александр, он рассказал, что ближе к концу оккупации российские солдаты стали прятаться в подвале станции. Мы решили пойти посмотреть.
На путях стояло несколько взорванных локомотивов, платформа была усеяна гильзами и деревянными коробками от боеприпасов. Я включил фонарик на телефоне и следом за Александром спустился по лестнице в подвал — темный лабиринт комнат, заваленных российской формой, ботинками и сухпайками. На трубах висели носки, на столах были разбросаны игральные карты, а пол был усыпан невероятным количеством пустых бутылок из-под водки, вина и виски. Я был шокирован количеством выпитого. Это моя четвертая война, но я никогда не видел ничего подобного. Позже многие жители Тростянца рассказывали мне: первое, что сделали российские солдаты, когда вошли в город, — вынесли из магазинов всю выпивку.
На Александра впечатление произвел не алкоголь, а количество Библий и икон. В комнате, заваленной бинтами, бутылками физраствора и окровавленными матрасами, он поднял с пола томик «Нового завета» и сказал: «Вы посмотрите только! Ужас какой! Как они могут быть верующими?»
В узком коридоре на стенах висело полтора десятка писем и открыток от русских школьников. 9-летняя Оля нарисовала два танка с цветами, торчащими из стволов пушек, а над ними — улыбающееся солнце. По небу шли надписи «За мир» и «Победа России», рядом — советский флаг. «Дорогой солдат, — начиналось одно из писем. — Очень надеюсь, что ты будешь сильным и защитишь нас, и что мир будет солнечный и счастливый». Послания и рисунки были почти одинаковые — очевидно, их делали по какому-то образцу. Но меня беспокоило не столько циничное использование детей, сколько тот факт, что взрослые находили утешение в этих зазубренных формулировках.
Впрочем, я мог и ошибаться, считая их взрослыми. Когда жители Тростянца набрались смелости выйти из своих домов и подвалов, все, с кем я говорил, отмечали, насколько молоды были оккупанты. В доме культуры, где волонтеры раздавали сахар, яйца, подгузники и прочие вещи первой необходимости, люди толпились у дизельных генераторов, заряжали телефоны и впервые за много недель читали новости. Российских солдат они в основном описывали как неуравновешенных мародеров. Когда они покидали город, их боевые машины были забиты коврами, телевизорами и прочей украденной техникой.
Мэр Юрий Бова показал здание городской администрации. «В чем смысл этого всего?» — спросил он, проходя по разгромленным кабинетам мимо разбитых компьютеров. К двери были приклеены прокладки, а сверху граффити: «Слава России!!!»
На другом конце города Бова показал мне кондитерский завод, который выпускал продукцию Oreo, Milka и Nabisco. Российские солдаты, которые там расположились, казалось, питались исключительно продукцией завода: оберток от шоколадок и коробок от печенья на полу валялось не меньше, чем гильз от патронов. Рядом с конвейером стояли десятки ящиков с неиспользованными снарядами. Все кабинеты были разгромлены. В переговорке, окна которой были забаррикадированы коробками конфет, российские солдаты оставили несколько посланий — маркером на экране для проектора.
«Мы просто выполняем приказ. Извините». «Нам не нужна эта война». «Нас сюда послали. Пожалуйста, простите нас». «Братья! Мы вас любим!»
Через несколько дней российские войска отступили и на севере Киева. Я вернулся в столицу, чтобы посмотреть, что они оставили после себя.
Буча
Небольшая извилистая улица Ивана Франко находится на восточной окраине города Буча. На другом берегу реки Ирпень — роддом, где был расположен пункт «Госпитальеров». Во время месячной российской оккупации по улице Ивана Франко, по сути, проходила линия фронта, и когда я туда приехал, тут и там, между разрушенными домами и разбитыми машинами, стояли остовы сгоревших танков и военных грузовиков. Редкие прохожие, которые попадались мне по пути, выглядели ошарашенными, похожими на жертв стихийного бедствия.
Когда я дошел до конца улицы, меня подозвала пожилая женщина в пуховике и теплом платке. Я прошел за ней по крутой тропинке к железной дороге. Вдоль путей шла большая сточная канава. На дне, лежали два мужских тела, наполовину скрытые мусором, нанесенным недавними дождями. Женщина сказала, что это ее братья: «Их все любили. Мы не знаем, почему их убили».
Обоим братьям, дяде Юре и дяде Вите, как звали их местные, было за шестьдесят. Они жили в соседних домах. Во время оккупации Бучи Юрий ходил с белой повязкой на рукаве, знак нейтралитета, и разносил соседям хлеб, который сам пек. Мужчинам стреляли в голову. Рядом в траве валялись пустые пивные бутылки.
«А этого я не знаю», — сказала женщина про тело на обочине. Мужчина средних лет, полный, одет в гражданское, лысоват, с аккуратно подстриженной седой бородой. У него из головы вытекло столько крови, что вся земля вокруг была багровая.
Ко мне подошел украинский солдат, сказал, что обнаружил еще одно тело. Я пошел за ним, в подвале желтого особняка, скрючившись на полу, лежал худой как щепка подросток. Лужицы крови у носа и рта. Солдат присел и ощупал голову подростка. «Ему стреляли в затылок», — сказал он.
Перед небольшим двухэтажным домом российские солдаты соорудили блокпост из паллет, пенобетона и пустых ящиков от боеприпасов. А во дворе казнили еще троих человек. Одному выстрелили в голову через ухо, он лежал на спине у забора. Другой тоже лежал на спине, у поленницы, на его кожаной куртке с меховым воротником поблескивал нерастаявший снег, а лицо было скрыто майкой. Третий лежал ничком, ему выстрелом снесло полголовы, мозги смешались с грязью на земле.
Внезапно во двор вошли две женщины тридцати с лишним лет. В их внешнем виде была какая-то дисгармония с происходящим. В отличие от большинства жителей Бучи, они не были в грязи: аккуратная и стильная одежда, белоснежные кроссовки, макияж, украшения. С ними пришел полицейский. Одна из женщин, в черных джинсах и свитере в горошек, присела рядом с мужчиной, лицо которого было скрыто майкой. Это Ирина Гаврилюк, а мужчина был ее мужем. У забора лежало тело ее брата.
Позже Ирина рассказала мне, что, когда российские войска заходили в Бучу, они вместе с матерью и сыном брата смогли выбраться в Киев. Солдаты обстреливали все движущиеся машины, так что им пришлось бежать три километра, под обстрелами танков и артиллерии, до реки Ирпень, которую еще контролировали украинцы. Там их подвезли до разрушенного моста, где Август с Орестом переправляли беженцев на другой берег. Автобус отвез их в столицу, а оттуда поездом они добрались до Закарпатья и остановились у друзей.
47-летний охранник Сергей Духли, муж Ирины, остался в Буче — он не хотел бросать двух собак и шестерых кошек. Остался и ее брат Роман. После того, как русские обесточили город и стали отбирать телефоны у населения, связь с ними пропала. И вот теперь Ирина узнала, что они погибли.
Ирина опознала Сергея и Романа, полицейские стали фотографировать двор. Женщина убрала майку с лица своего мужа. У него приоткрыт рот. Пуля прошла через глаз и оставила на его месте зияющую дыру.
«Может, не стоит?» — спросил полицейский.
Гаврилюк вернула майку на место.
Вторую женщину звали Елена Галака, она — лучшая подруга Ирины. Когда они уходили, Ирина сказала ей: «У меня руки дрожат». Голос был спокойный, как будто она уже смирилась — примерно так же женщина в роддоме сказала: «Мужа убило сразу». Ирина пошла по дорожке к двери дома, но остановилась около садовой тачки и прижала ладонь ко лбу. В тачке лежал ее питбуль по кличке Валик. Его тоже застрелили.
Ирина и Елена вошли в дом. Увидев на полу пятно крови, Ирина сказала: «Вот тут они пристрелили Валика». Она пошла кухню, открыла холодильник, заглянула в кладовку, проверила полки и шкафы с посудой. Я не очень понимал, что именно она ищет. По слухам, российские солдаты оставили в домах растяжки, и Елена, которая служила в киевской полиции, сказала Ирине: «Не страдай херней, ты меня пугаешь». Она беспокоилась по поводу взрывчатки.
Ирина не слушала. В гостиной она стала вынимать из шкафа платья и рубашки и складывала их в пластиковый мешок. Увидев, что подруге просто нужно чем-то заняться, Елена забыла о соображениях безопасности и стала ей помогать.
«Будешь брать одежду Сергея?» — спросила она.
«Дай подумать», — ответила Ирина. А потом: «Да, складывай».
Пустые коробки из под обуви были свалены в кучу. «Они украли мои туфли», — сказала Ирина. Ее белья, духов и украшений тоже не было. Но она нашла коробку конфет, которую спрятала подальше, для особого случая, и отдала ее Елене. «Возьми детям», — сказала она.
Елена смотрела на коробку. «Думаешь, они отравленные?»
Женщины пошли на второй этаж, в спальню, и спугнули маленькую птичку, которая залетела в дом и не могла выбраться. Она стала бешено метаться по комнате, билась о стены и скакала по полу. Елена открыла окно, и несколько секунд Ирина, как будто во сне, гонялась за птицей, пока та не вылетела наружу. Ирина встала на колени и достала из-под кровати старую книгу в кожаном переплете. Это был сборник стихов Тараса Шевченко, одно из которых — «Завещание» — стало чем-то вроде гимна участников Революции достоинства. Оно начинается так:
Як умру, то поховайте
Мене на могилі,
Серед степу широкого,
На Вкраїні милій…
«А это что?» — спросила Елена. В руках у нее была сумочка на молнии. «О! Это его монеты», — сказала Ирина.
Она улыбнулась. Расстегнула сумочку, показала монеты, которые привозили Сергею из путешествий знакомые: Кипр, Сингапур, США, Индонезия. Он их коллекционировал. На полке аккуратно стояла дюжина миниатюрных шезлонгов. Ирина объяснила, что эту инсталляцию сделал Сергей — в шезлонгах лежали его старые телефоны, каждый в своем. Российские солдаты эти телефоны забрали.
Ирина продолжала ходить по комнатам и собирать вещи, когда в дом заглянула женщина в длинном пальто и очках. Она пришла выразить соболезнования. На протяжении всей оккупации она оставалась в Буче и выглядела очень уставшей и истощенной. Ирина нагрузила ее всем, что могла найти: мыло, шампунь, косметика, одежда.
— Какой у вас размер? — спросила она, протягивая женщине три пары обуви, которые солдаты не стали забирать.
Женщина колебалась:
— А как же вы?
— Мы уезжаем в Закарпатье.
— И не вернетесь?
— В ближайшее время нет.
— Будете кремировать Сергея и Романа?
— Не знаю. — Ирина заметила опрокинутый стакан с карандашами и поставила его прямо.
Через некоторое время пришла еще одна соседка, Надежда Чередниченко. Жилетка и кофта с капюшоном у нее были рваные, руки все в порезах, под ногтями — грязь. Обняв Ирину, Надежда стала рассказывать, как ее сына Владимира, 27-летнего электрика, задержали в начале марта. Три недели спустя она подошла к двум российским солдатам, которые патрулировали улицу у нее перед домом. Она сказала им: «Как мать вас спрашиваю, мой сын жив?». «У вас больше нет сына», — ответил один из солдат.
Сосед отвел Надежду в подвал, где лежало тело Владимира. Ему прострелили голову через ухо. Все пять пальцев на левой руке были вывернуты назад.
Ирина слушала рассказ и время от времени кивала. Сказать подруге ей было нечего, но ее собственная потеря сближала их, и Надежда чувствовала что может поделиться своим горем. Позже Надежда показала мне сад, где похоронила Владимира. На могиле принято оставлять что-то съестное, но жителям Бучи едва хватало еды. Владимир был буквально зависим от кофеина, и Надежда положила на неприметный холмик пакетик растворимого кофе.
Когда Надежда ушла, Ирина вышла в палисадник. Забор был опрокинут, и когда она подняла несколько штакетин, оказалось, что под ними лежал труп второй ее собаки.
Ирина закрыла лицо руками. У нее дрожали плечи. Впервые после возвращения домой она позволила себе расплакаться.
Буча. Парк
Неподалеку от дома Ирины, у помойки, лежали несколько обугленных тел. Бучанцы говорили, что русские на танке привезли их сюда и подожгли. Позже полиция огородила это место и поставила шесть желтых табличек, по числу жертв. Судя по всему, среди погибших была одна женщина и один ребенок, хотя тела были настолько сильно обезображены, что сказать наверняка было невозможно. Останки обнюхивали собаки и кошки, оставшиеся без хозяев.
Зверства творились по всему городу, не только на улице Ивана Франко. По данным районного прокурора, в городе было найдено больше шести сотен тел. Согласно докладу Human Rights Watch, в городе зафиксировано множество доказательств «внесудебных казней, других незаконных убийств, похищений и пыток». По крайней мере один человек был обезглавлен.
Пресс-служба украинской генпрокуратуры опубликовала фотографию мужчин, которых связали и казнили в «пыточной», которая находилась в подвале детского санатория. Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова в интервью «Би-би-си» утверждала, что в другом подвале российские солдаты на протяжении месяца удерживали и регулярно насиловали 25 девочек и женщин в возрасте от 14 до 24 лет; девять из них забеременели. Корреспонденты New York Times записали рассказ о том, как один из жителей Бучи обнаружил у себя в подвале тело еще одной женщины — на ней не было ничего кроме шубы.
Когда российские войска только вошли в город, команда добровольцев, рискуя жизнью, собирала тела по всему городу и свозила их в морг. Через 10 дней место в морге кончилось, рефрижератор там не работал, и жители Бучи вырыли общую могилу за церковью. Когда и она заполнилась, ее засыпали трактором и вырыли вторую, а потом и третью. Я был у церкви на следующий день после того, как встретил Ирину Гаврилюк. В третьей могиле все еще лежали большие черные мешки, из земли торчали чьи-то руки и ноги. Настоятель храма Андрей Галавин был внутри, чинил в одном из нефов окно, которое выбило взрывом. «Не только тут такое, — рассказал он. — По всей Буче люди похоронены».
Священник позвал меня посмотреть парк. Мы шли по улице, на которой украинские беспилотники уничтожили первую российскую колонну, которая вошла в Бучу. Полкилометра дороги были усеяны башнями, двигателями, пушками и гусеницами подорванных танков. Масштабы разрушений были невероятными. Несколько местных жителей рассказали мне, что российские подразделения, которые пришли следом, вели себя гораздо жестче — возможно, это была месть.
Рядом с парком стоял расстрелянный микроавтобус. На капоте у него была надпись «Дети». С боковых зеркал свисали белые тряпки. «Они пытались уехать», — сказал отец Андрей. Он не знал, кем были пассажиры и кто их похоронил. Могилу можно было опознать по свежевскопанной земле, на которой лежал передний номерной знак машины.
Как ни странно, в парке было очень много конского навоза. Отец Андрей объяснил: разбомбили конюшню, выжившие лошади, обезумев от постоянных обстрелов, долго носились по городу. Когда я спросил, где они сейчас, священник только пожал плечами.
Но что там лошади, бездомные животные были в Буче повсюду, и было сразу понятно, что стало с их хозяевами. Через железную дорогу от улицы Ивана Франко, в небольшом переулке прямо на пороге дома лежало ничком тело пожилой женщины. Над ней стояла собака, которая дрожала и все время лаяла. Я открыл банку тунца, и она набросилась на еду. Я зашел в дом и увидел еще одно тело, женщина лежала на кухне.
Позже соседи рассказали мне, что это были сестры, обеим — за семьдесят. Их звали Нина и Людмила. В доме была одна спальня, на полу лежали рядом два узких матраса, накрытые одним одеялом. Все было забито книгами. Несколько полок русских переводов французских писателей: Вольтер, Камю, Мопассан. В стопке на шкафу я заметил сборник стихов Шевченко — такой же, как достала из-под кровати Ирина Гаврилюк.
Одинокая пожилая жительница Бучи рассказывала, как молила российского солдата не убивать ее, когда тот ворвался к ней домой. «Никогда бы не подумала, что в семьдесят лет мне придется стоять на коленях перед девятнадцатилетним ублюдком», — резюмировала она. Как и жители Тростянца, эта женщина описывала не бесстрашных, закаленных в боях убийц, а неуравновешенных жестоких подростков. В школе неподалеку от улицы Ивана Франко, где располагался российский артиллерийский расчет, все было завалено пустыми банками из-под пива. Кабинет директора разгромили. При помощи школьной печати российский солдат старательно нарисовал на стене большой член.
Буча. Церковь
Анастасию, Артема и Мамонта отправили на стабилизационный пункт рядом с Ирпенем. Как-то раз, уже после отступления российских войск, Анастасия поехала в Бучу раздавать еду, воду и лекарства вместе с нейрохирургом Юзиком. Они видели пожилую женщину, которая пострадала при взрыве за несколько дней до того: осколок оставил огромную рану на ее руке. «Нам пришлось ее долго убеждать, что нужно обработать эту рану, — рассказала мне Анастасия. — А она все говорила, что не надо нам тратить на нее время».
6 апреля мне позвонил еще один «госпитальер», который ехал к массовому захоронению у бучанской церкви. «Сам не знаю — зачем», — сказал он. Я был рядом и оказался у церкви за пару минут до того, как туда подъехало несколько скорых и микроавтобусов. Среди пассажиров был один из священников Михайловского монастыря, Иван Сидор. В монастыре я расспрашивал его о ночи с 10 на 11 декабря 2013 года. Отец Иван тогда учился в семинарии. Около часа ночи ему в панике стали звонить знакомые. Несколько сотен силовиков атаковали протестующих, которые расположились на Майдане. До этого к демонстрантам относились более или менее мягко. Теперь власти решили их жестко разогнать.
«Они просили, чтобы я бил в колокола», — вспоминал отец Иван. Он был звонарем Михайловского монастыря. Он хорошо знал перезвоны, которые использовались перед службами. Но был сигнал тревоги — набат, очень редкий перезвон, который последний раз звучал в монастыре в 1240 году, когда монголы осаждали Киев.
Заручившись согласием настоятеля, отец Иван и еще пятеро семинаристов залезли на колокольню и стали по очереди бить в колокола. Набат звучал непрерывно до пяти утра. Потом семинаристы спустились с колокольни и пошли на Майдан. Протестующие все еще были там, им удалось отбить штурм силовиков.
«Мы победили», — вспоминал отец Иван.
В Буче он стоял рядом с бородатым мужчиной в черной монашеской рясе и клобуке. Это был митрополит Епифаний, глава Православной церкви Украины. Его фотографии — в основном с почетными заграничными гостями — висели в коридорах Михайловского монастыря, и я видел, как он общается с группой журналистов в соборе. Когда один из них спросил, что Епифаний хотел бы передать Путину, тот ответил: «Мне нечего сказать этому человеку — он Антихрист. Когда видишь наши разрушенные города, то понимаешь, что на такое способен только дьявол или кто-то в сговоре с дьяволом».
Пока бучанский священник отец Андрей здоровался с отцом Иваном и митрополитом Епифанием, один из медиков помогал командиру «Госпитальеров» Яне Зинкевич пересесть из микроавтобуса в ее кресло-коляску. Все направились к могиле. Трое священников отслужили панихиду. Епифаний обошел могилу по кругу и обрызгал ее святой водой.
Служба была закрытая, присутствовали только несколько «госпитальеров». Среди них был и Август, поклонник сериала «Братья по оружию». За месяц до этого, когда я только познакомился с Августом, он энергично надевал бронежилет и разгрузку и весело говорил: «Я еду на войну!». Этого человека больше не существовало. Он выглядел мрачным и изможденным. А еще повзрослевшим.
«Как дела?» — спросил я его, когда кончилась служба.
«Злюсь», — ответил он.
Чтобы уравновесить эти образы, он достал телефон и показал мне фотографию: он стоит над трупом российского солдата. «Хороший русский», — сказал Август. Но шутка даже ему показалась несмешной, он смешался и убрал телефон.
Буча. Кладбище
Накануне панихиды я вернулся на улицу Ивана Франко. Обугленные трупы убрали. Остался только кусок обгоревшей земли.
Рядом с домом Ирины Гаврилюк стоял белый фургон. На грязной задней двери кто-то вывел пальцем «200» (но без слова «груз»). Фургон принадлежал добровольцам, которые собирали тела погибших по всему городу во время оккупации: сначала привозили их в морг, а потом — к церкви. Добровольцы — крупные и крепкие мужчины, явно привычные к тасканию тяжестей. Один из них, Сергей Матюк, раньше был профессиональным футболистом. Бритая голова, широкие плечи. На груди цветастой ветровки — значок «Я ЛЮБЛЮ СВОЄ МІСТО» с гербом Бучи. По его подсчетам, вместе с другими добровольцами они перевезли около трехсот трупов, и по крайней мере у сотни руки были связаны за спиной. «Многих пытали», — сказал он.
Один из добровольцев был знаком с мужем Ирины Гаврилюк. Когда Матюк начал поднимать тело Сергея, доброволец заметил: «Они даже золотую коронку его сняли».
Матюк, сосредоточенный на главном, скомандовал: «Пошли».
Ирина была дома, но старалась не выходить на задний двор. Пока добровольцы по одному перетаскивали тела в фургон, она пыталась найти своих кошек. Вдруг она остановилась и посмотрела на свои руки.
«Все такое грязное», — пробормотала она.
Фургон был на половину заполнен телами, и Матюку пришлось залезть в кузов, чтобы втащить Сергея и Романа поверх остальных. Дальше они поехали к желтому дому и вынесли из подвала тело подростка. А потом повезли свой груз на местное кладбище.
До кладбища я добрался на следующий день. Десятки мешков с трупами лежали рядами или были свалены в кучи рядом с кирпичным домиком, который добровольцы использовали в качестве штаб-квартиры. Матюк был в той же цветастой ветровке со значком, что и накануне. У него на поясе висел кинжал с разукрашенной камнями рукояткой; он нашел его на российском блокпосту и оставил себе в качестве трофея. Матюк сказал, что тела повезут в Киев, где судмедэксперты постараются их идентифицировать при помощи образцов ДНК. В последующие дни рядом с церковью эксгумируют больше 110 трупов.
— Я очень устал, — сказал Матюк. — Мы вообще не спали.
— С тех пор, как русские ушли?
— С тех пор, как они пришли.
Я спросил, что он собирается делать после войны, и Матюк сказал, что договорился о работе на кладбище, копать могилы:
— Мое место здесь.
Киев. Начало апреля
Смена Анастасии, Артема и Мамонта заканчивалась на следующий день, 7 апреля, и я встретился с подругой в ее квартире на Андреевском спуске. Мы спустились по брусчатой мостовой к Днепру, мимо памятника Василию Слипаку. На набережной открывались рестораны, магазины и кафе. День был теплый и солнечный — впервые с тех пор, как я приехал в Украину, — и несколько человек уже вышли на пробежку. Посмотрев на песчаный пляж Труханова острова, Анастасия улыбнулась и стала рассказывать, как ходила туда на концерты. «Летом здесь просто потрясающе», — сказала она.
Когда на набережной я спросил Анастасию, поедет ли она на восток, она сказала: «Я еще подумаю. Очень рискованно, могут убить». Пока же она возвращалась в Париж на пару недель. Ей нужно было написать научную работу, она хотела заниматься правозащитой и сбором средств. За месяц в Украине ей иногда бывало сложно снова привыкнуть к военной культуре, рутине, настрою «Госпитальеров». Анастасия была одной из очень немногих участниц медицинского батальона, отказавшихся носить оружие. В отличие от Августа, Юзика и Мамонта, ее не завораживала война, да и не была она к ней приспособлена. Просто, как множество украинцев, она отказалась от нее бежать.
Анастасия съездила в Париж, а потом вернулась в Украину. Когда мы общались в в последний раз, она была у своих родителей в Киеве. «Госпитальеры» покидали Михайловский монастырь. Она собиралась поехать с ними на восток.
Автор: Люк Могелсон
Оригинал: "The Wound-Dressers"; New Yorker, May 2, 2022
Перевод: Д. Г.
Автор: Оксана Загороднюк, редактор рубрики "Україна" на ЖЖ.info
Україна | 04.06.2022 | Переглядів: 8868 |