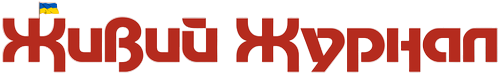| ЖЖ » Новини » Люди і Суспільство » 2023 Май 20 » 14:21:43 |
Известный онколог Илья Фоминцев уехал из России и рассказал, почему люди там умирают от рака

Илья Фоминцев, хирург, врач-онколог и врач-просветитель, был создателем Фонда медицинских решений «Не напрасно». И Высшей школы онкологии — бесплатной ординатуры для врачей. И цифровой платформы «Всё не напрасно» — школы для пациентов, «чтобы у каждого человека была актуальная информация и поддержка в процессе диагностики, лечения и наблюдения заболевания». И «энциклопедии» для больных — Oncowiki. И онкологической клиники.
Он организовывал по всей стране бесплатные скрининги пациентов и популяризировал само это понятие — «выявление заболевания на бессимптомной стадии, когда человека ничего не беспокоит и признаков заболевания нет». Читал бесплатные лекции, проводил благотворительные аукционы, собирая деньги для больных.
24 февраля 2022 года он вышел на несанкционированный митинг, а потом провел 20 суток под арестом. Из его фонда начали уходить спонсоры. В августе прошлого года Илья Фоминцев оставил в фейсбуке** пост о том, что ищет новый дом для своей собаки: «Щас мне будет очень больно, но я должен это написать. Снимать разные квартиры, переезжать через границы вот с этим всем и с огромным псом 40 кг — это почти нереально». Он уехал в Израиль — в страну, где точно никого не надо учить, как лечить рак.
«Со всеми своими проектами я въехал в бетонную стену»
— В августе 2022 года, уезжая из России, вы написали: не буду переживать из-за того, что год не увижу русских березок. Вы уезжали на год?
— Я уехал 2 августа и думал, что буду приезжать — и в сентябре, и потом. Думал, что параллельно буду заниматься проектами в России. Осознание того, что я уехал как минимум… Я не знаю, на сколько лет. Может быть, насовсем. Вот это понимание пришло сильно позже. И это было очень болезненное осознание. Очень болезненное.
— А как вы поняли, что насовсем? От чего это зависело тогда?
— Зависело от обстоятельств. Я про [частичную] мобилизацию-то не подумал, как и про все, что за ней последовало. А тут понял, что все это надолго, и дальше будет только хуже.
Дальше, вероятно, вообще границы перекроют. Собственно, это теперь и происходит: они границы перекрыли не для всех, но для любого. Именно так: не для всех, но для любого. Это очень хитро.
— Видно было по тому, что вы писали в фейсбуке, что вы очень тяжело адаптировались. Я знаю, что эмиграция — штука в принципе очень тяжелая, но многие считают, что уж врач-то везде себя найдет.
— Как раз врачи адаптируются обычно хуже, чем многие другие, и это понятно.
— Правда? У меня вся семья — врачи, все давно живут за пределами России, брат и сестра работают по профессии.
— Вот спросите, как они адаптировались.

Илья Фоминцев в Национальном институт рака. Фото из личного архива
— Трудно. Но легче, чем знакомые журналисты или юристы, которые оказываются в чужой стране без профессии.
— Просто чисто юридически процесс адаптации для врача очень тяжелый. В Израиле, например, даже при хорошем раскладе пройдет минимум полтора года, прежде чем ты сможешь поступить в резидентуру. Эти полтора года ты будешь последний хрен без соли доедать. А у тебя семья, дети. И что ты будешь делать? Кто на стройке работает, кто где. По-разному бывает. Ну и я ведь давно не врач, я управляющий в здравоохранении. Я перестал оперировать в 2010 году, 13 лет прошло, это не шутка. Какое-то время я еще поработал врачом, года до 2012-го, но де-факто я давно уже не врач, я не принимаю больных. И вопрос даже не в этом, а в том, что врачам адаптироваться в принципе сложнее.
У меня сложность адаптации была в том, что со всеми своими проектами я въехал в бетонную стену. То есть я лишен всего, чем занимался в России. А это была не просто огромная часть моей жизни, это была вся моя жизнь. Я просто лишился своей жизни. Всей. У меня была клиника, была школа, был фонд. Я жил этим на сто процентов, был полностью в это погружен. И вдруг ты всего этого лишаешься.
И вот ты бездействуешь, причем в стране, в которой ни разу в жизни даже не был. Без связей и без денег. Никаких накоплений у меня ведь не было, у меня их и сейчас нет. Вот вышел ты в аэропорту — ну давай, иди. У меня трое детей. И вперед.
Я-то ехал с идеей глобализовать то, чем занимался раньше. А оказалось, что нужно организовывать все с полного нуля. С полного, с тотального. Точно так же я мог высадиться на Мадагаскаре. В какой-то момент у меня началась бессонница, коллеги мне ставили ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство. — И. Т.).
— Вы не знали, что так будет, когда уезжали? Или вы были уверены, что сможете заниматься тем же самым, но в другой стране?
— У меня был какой-то первичный план, я понимал, что именно собираюсь делать. Понимал я и то, что план этот будет, скорее всего, видоизменяться, потому что будут какие-то новые вводные. Так оно и случилось, только вводных оказалось слишком много.
Оказалось, что дети очень плохо адаптируются. Просто очень плохо. Младшей девочке полтора года, она самая счастливая. А двое старших бандитов — прямо с трудом. Со средним сыном была куча проблем, он просто не мог ходить в детский сад. Сейчас, слава богу, наладилось. Старший два раза из школы сбегал. А это в Израиле, вообще говоря, событие. Школы охраняются, охранники кругом ходят, тут боятся терактов. А он сбежал. Ко мне примчалась директриса с трясущимися руками: «Ах, меня посадят, меня посадят». Я говорю: вот он, дома. А как, спрашивает, сбежал? Он пошел и показал дыру в защите. Через пару дней сбежал еще раз — через другую дыру.
— Талантливый мальчик.
— Бандит. Но это тоже — к вопросу об адаптации. Уехал я реально с голой задницей. Денег нет, где их брать — непонятно. В квартире нет мебели. Ты спишь на полу, на тоненьком матрасе, утром у тебя шея и руки отваливаются. Был момент, когда я не то что чашку — руку не мог поднять, такая была боль.
— Вся ваша работа в России — фонд, клиника, школа, все это было до такой степени неприбыльно?
— А что здесь могло быть прибыльно? В фонде у меня была какая-то зарплата, да. К концу месяца она каждый раз кончалась. Клиника только успела выйти на безубыточность, но что-то получать стали инвесторы, а я же не был инвестором. Я же нищеброд. Я ждал, когда у клиники прибыль начнется. Но началась [спецоперация]. Продали мы клинику за копейки, я еще и должен остался.
— Появлялась у вас мысль «все, сил нет, возвращаемся»?
— Нет, конечно, куда возвращаться… Нет, таких мыслей не было.
«Врачи боятся говорить»
— Вы ехали в Израиль, понимая, что там будете не врачом работать, а заниматься именно организацией медицины, но хотели продолжить работать с существующими в России проектами, правильно я поняла? Или вы собирались создавать новые?
— Я рассчитывал, что буду работать в двух фондах. Нет, уходил-то я из своего фонда в России совсем, но думал, что буду сохранять с ним связи. На самом деле так получилось, что новое руководство фонда меня довольно быстро изолировало. Это не упрек, это было с их стороны абсолютно правильно, тут я с ними совершенно согласен. Огромное количество проектов фонда были завязаны на мне, но я их постепенно сам передавал.
— Уже после отъезда передавали, или вы и раньше предполагали, что придется уезжать?
— В России становилось все хуже и хуже, репрессии были все жестче. Но все-таки даже в момент отъезда я еще не был настолько токсичной персоной. А потом я стал реально опасным человеком для фонда, поэтому мне самому надо было от него полностью изолироваться. Что я, собственно, и делал. И сейчас я вообще не знаю, что там происходит. То есть узнаю об этом из соцсетей.

Институт ядерной медицины в Химках. Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
— В каком состоянии без вас остались ваши проекты в России?
— Клиники больше просто не существует. А ВШО, Высшая школа онкологии, продолжает работать. Идея оказалась настолько сильной, сообщество настолько сильное, что ребята без меня самоорганизовались. Они сказали: вы нас обучили — мы должны ВШО отдать долг. Они набрали людей и продолжают обучать.
— Государство, по идее, должно быть заинтересовано в работе таких фондов и школ, как ваши. Оно как-то вам помогало? Может быть, сейчас помогает?
— В России я старался с государством никаких дел не иметь. То есть у меня были попытки на каких-то ранних стадиях развития фонда. Но в какой-то момент я понял, что из-за тотальной коррупции это почти невозможно. Пытался я внедрять в Санкт-Петербурге скрининг, но проект из-за коррупции просто встал колом.
— Денег просили?
— Ну вот вам пример. Мы хотели запустить проект по скринингу колоректального рака. Для этого нужны были деньги, но самая главная проблема — люди, которые смогут все организовать. У меня сложились хорошие отношения с вице-губернатором Санкт-Петербурга, я предложил ей свою идею. В мире есть всего четыре валидированных для скрининга производителя тестов для колоректального рака, основную часть рынка занимают японцы, заметную долю — итальянцы. Давайте, говорю, им предложим: пусть они поставляют свои системы в Петербург и дадут нам такую скидку, чтобы ее хватило на организацию скрининга. То есть город оплачивает им системы, а они оплачивают Петербургу скрининг. Вице-губернатор сказала: классная идея, давайте делать.
Оказалось, что у комитета по здравоохранению были совершенно другие планы. Когда они узнали, что есть такая штука — скрининг, им никакие скидки и никакая организация процесса не понадобились. Им надо было заплатить — и «откатить». Они перехватили идею.
Поскольку со мной этот номер с «откатить» был невозможен, они позвали других производителей — вообще непригодных для скрининга. Тесты назывались похожим образом, но использовать их для скрининга нельзя, хуже того — вред принесешь, а не пользу. Внутри комитета по здравоохранению началась битва, я выступал на каких-то рабочих группах, но уже и вице-губернатор ничего сделать не смогла. И они закупили то, что хотели.
И это было полбеды. Я все-таки продолжил попытки сделать то, что собирался. Я нашел производителя, который давал просто фантастические условия для России и готов был оплатить скрининг практически на всю страну. Я уже радовался: пусть не получилось в Петербурге, зато получится в других регионах. Знаете, что произошло?
— Боюсь даже угадывать.
— Их системы зарегистрированы во всем мире. И в США, и Европе, и везде. Но Роспотребнадзор разбил их регистрационное удостоверение на пять разных, чтобы получить, как я подозреваю, (…) [какую-то выгоду]. Пять лет прошло — они до сих пор не зарегистрировались.
И так это работает, вот ровно так коррупция убивает людей. Я сказал просто: пошли вы все к чертовой матери, буду делать все без вас и влиять на мир другим путем. Так закончились мои игры с государством в России.
— В начале [спецоперации] вы говорили, что онкологические лекарства в России закончатся в мае 2022 года. Они закончились?
— Нет, я ошибался. Хотя определенные проблемы уже существуют. Я пытался выяснить их подробно, но разговаривать ни с кем ведь невозможно. Сейчас разговариваешь с врачом, оставшимся в России, а он боится говорить. Даже в чате, даже в телеграме. Напишешь — а утром чат уже стерт.
— Какое вообще место в лечении рака занимает лекарство, фармацевтика?
— Огромное. Гигантское. Хирургия в онкологии во всем мире, и в России тоже, снижает свою роль. С пониманием биологии рака, с развитием фармакотерапии рака, лекарственная терапия все больше и больше занимает центральное место. Поэтому препараты для лечения рака — это в онкологии ключевая вещь.
— В России производятся хорошие противоопухолевые препараты?
— В России производятся препараты, их много, они разные, но хорошие они или нет — этого никто не знает.
— Как это?
— Вот так. Спасибо тем же самым коррупционным схемам, потому что все это биоаналоги западных препаратов, и у нас нет открытых данных по исследованиям этих препаратов по их идентичности оригиналам.
Никто не понимает: так же действуют российские препараты или иначе, потому что данные закрыты. Это отличный вопрос — как это, почему бы их не открыть? Но попробуйте раздобыть хоть одно исследование, как конкретный российский препарат соответствует оригиналу. Не найдете. Хотя за препараты платят вообще-то налогоплательщики,
имеют вроде бы право знать, за что, собственно, они платят. У нас есть только мнения на этот счет, но нет открытых исследований.
— А врачей сейчас хватает? Очень много врачей ведь уехало.
— И уехали лучшие, те, кто имел возможность найти работу, имел амбиции. Это, конечно, обеднило российскую медицину сильно. Я не скажу, что это как-то ее обрушит. Но вот есть мой номер телефона, его многие знают, я всегда помогал пациентам, которые не знали, куда пойти. И вот что я обнаружил: я, при всех моих связях, все чаще и чаще не знаю, к кому пациента направить. Потому что этот уехал, тот уехал. То есть я не знаю, как отъезд врачей повлиял на систему в целом, как он повлиял на средний уровень врача «по палате», но такое наблюдение у меня есть.
— Обращаются ли к вам врачи, которые хотят уехать и просят помочь найти работу вне России?
— Очень часто.

Израильский паспорт Фоминцева. Фото из личного архива
«Это два мира — два Шапиро»
— В Израиле вы создали организацию IHEA — International Healthcare Equity Agency: Международное агентство по справедливому здравоохранению, если я правильно перевожу. Зачем, что вы можете сделать в Израиле? Это же земля и небо: медицина в России — и в Израиле.
— Да, это земля и небо, хотя в Израиле тоже есть свои проблемы, их можно решать, и здесь тоже есть место для фондов. И у меня в планах — несколько проектов для Израиля. Но вообще я хотел работать только в какой-то части для Израиля, потому что здесь людей учить медицине — только портить. Я хочу работать глобально, и эти планы я сейчас последовательно реализую.
Я понял две вещи.
Во-первых, нельзя ничего не делать для страны, в которой ты живешь. Иначе ничего работать не будет. Просто никто не будет вами интересоваться. Во-вторых, нельзя работать только для страны, в которой живешь.
Это два равнозначных тезиса, если ты хочешь, чтобы что-то получилось. И эти два момента до отъезда мне не были очевидны.
— Что вы собираетесь делать для Израиля, а что глобально? Как вы это вообще будете разделять?
— В первые дни я начал бурную деятельность по коммуникациям с людьми, которые мне нужны. Я имею в виду профессионалов, которые тоже приехали из России…
— Это врачи, которые, как и вы, уехали из-за [спецоперации]?
— Это касается только этих людей, и я не хотел бы обсуждать этот момент применительно к ним. Совсем. Я собрал команду, она несколько раз перетасовалась, но в конце концов сложилась.
Одновременно с этим я разрабатывал несколько абсолютно разнонаправленных идей. Они все были связаны с моими предыдущими проектами, но тут надо было выяснить, какие боли есть у Израиля. А это было очень непросто. Поэтому были сотни встреч. Я ежедневно встречался с какими-то людьми, в том числе и абсолютно «левыми», просто разговаривал в барах, в кафе, просто незнакомых людей спрашивал, что они вообще думают о медицине в Израиле. Естественно, это были все-таки люди, которые более-менее в курсе проблемы. Но я просто хотел понять картинку.
Параллельно я разрабатывал несколько проектов, ориентированных на глобальный мир. Подходы здесь несколько раз менялись. Я не знал, какой из проектов первым стрельнет, делал все одновременно.
— Какие это проекты? Ну какие, например, проблемы вы можете решать для Израиля с его-то медициной?
— Например, в Израиле огромная нехватка врачей.
— В Израиле — нехватка врачей?
— И очень сильная. Причем она усиливается, и году к 2030-му это обернется кризисом. Долго рассказывать, но это вещь абсолютно прогнозируемая.
— Это при том, сколько евреев-врачей переехало сначала из СССР, а потом из России?
— В Израиле была огромная алия 1990-х годов, но сейчас она вся посыпалась, потому что люди уходят на пенсию. А новых столько уже нет. Сам Израиль «производит» 400‒500 врачей в год, а уходят они с гораздо большей скоростью.
Одновременно в Израиле самая высокая в мире доля врачей, которые обучаются за пределами страны: 58%. И это израильтяне, которые в стране родились. Но внутри страны, повторю, всего 400‒500 мест в год для врачей. Знаете, в какие страны израильтяне чаще всего едут учиться?
— Неужели в Россию?
— Нет. В Румынию и в Украину. В Россию тоже едут, но мало. Часто это арабское население. И так это было до 2019 года, пока профессор Яцив не задумался, а какое там вообще качество обучения? И комиссия Яцива поехала по всем медицинским вузам, где учились израильтяне. В итоге их абсолютно всех дисквалифицировали. Качество обучения было такое, что комиссия ужаснулась. И с 2019 года выпускники этих вузов вообще не считаются специалистами: не важно для Израиля, что ты закончил медицинский или строительный, такой диплом подтвердить попросту нельзя. То есть получается так, что те, кто поступал до 2019 года, еще прокатывают, а потом — всё. Но сам Израиль не способен выучить нужное количество врачей, и они понимают, что скоро у них начнется катастрофа. Я предложил им решение этой проблемы.
— Какое?
— Не буду пока рассказывать, но предложил. Израильский минздрав с этим согласился, сейчас этот проект в стадии разработки. Кстати, я теперь могу сравнить минздравы Израиля и России, я видел оба. Это «два мира — два Шапиро».
— И в чем разница?
— В уровне образования. В уровне погружения в проблему. В направленности вообще.
Когда ты приходишь в Минздрав в России, на тебя вот такие тетки с кольцами и серьгами смотрят, как на дерьмо. Ты для них проситель. «Ах ты мошенник, что-то ты явно от нас хочешь, мы вас всех видим насквозь». Сами они при этом в проблеме не разбираются вообще. В своей, за которую они отвечают.
Они просто ноль. Они даже не понимают, о чем я им говорю. Даже терминами не владеют.

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
И вот Израиль. Чиновнику в минздраве довольно высокого уровня я написал в вотсапе, мне спокойно дали его номер. Он, кстати, русскоязычный, из Украины. И во всех смыслах он говорит со мной абсолютно на одном языке. Он полностью погружен в тему, а себя воспринимает как сервис по отношению ко мне. Он меня никогда в жизни не видел. Он сделал для меня двухчасовой доклад — подробный, с обсуждением всего-всего. Мы обсудили наши решения, он внес в них пару офигенных поправок. А дальше стал спрашивать, чем он может мне помочь, что он может для нашего проекта сделать. Начал искать для нас деньги, связи и прочее. Вот так у них это работает.
«Умирают ровно из-за этого»
— А ваши глобальные проекты — это что? Они для врачей или для пациентов?
— Знаете, эта идея мне пришла в голову несколько месяцев назад, и она меня просто озарила. Случилось это после того, как я впервые съездил в Узбекистан и в Казахстан. Я посмотрел, поговорил с людьми, вернулся в Израиль, сидел ночью, курил. Сидел, сидел — и вдруг встал. Я пытался из Израиля делать что-то израильской командой, а потом обществам в других странах проекты «продавать». Я считал, что наш продукт — это сам проект, который мы предлагаем. И вдруг до меня дошло, что наш продукт — вообще не то.
— Не то — это что?
— Я должен не проекты продавать, а искать людей, которые смогут создавать у себя в стране системы, чтобы те уже покупали проекты. Мой продукт — не продукт НКО, а сама НКО. Утром я позвонил в Казахстан коллеге — и выяснилось, что я попал в самый нерв. И все просто мгновенно пошло. Именно это и было проблемой: им нужна удочка, а не рыба.
— В странах, с которыми вы собираетесь работать, не умеют создавать НКО? Где тут удочка?
— Вся полнота этой идеи в том, что я, находясь в Израиле, буду создавать сеть очень похожих НКО в других странах. Я не могу знать всех «погремушек» в других странах, но их знают люди, которые там живут. Я языка не знаю, я культуры не знаю, но этого я знать и не должен, а должен я знать транскультурные вещи: как делать.
Первая точка, которую мы уже открыли, — в Казахстане. Проект создали сами казахстанцы для Казахстана, я — только погруженный консультант, и то на время, пока они не встанут на ноги. И я им говорю: ребята, я хочу, чтобы в вашей стране было классное медицинское образование и чтобы все пациенты тоже были хорошо образованы. Я могу вам подсказать, как этого добиться, вы и сами можете это придумать, но — в рамках концепции, которую я вам дам. Какие в вашей стране проблемы — эти исследования я вас научу проводить, но дальше думайте, как эти проблемы решать. Решения, которые будут придумывать эти НКО, я буду собирать в штаб-квартире, фильтровать, а лучшие распространять на всю сеть.
— Слышать, что это теперь не в России, обидно. В России вас знали как доктора, который сделал очень много для больных. То, что вы теперь рассказываете, кажется далеким от медицины.
— Это кажется далеким от медицины потому, что применимо это к любой области, к медицине в том числе. Но в медицине в принципе та же логика, те же концепции, что в любой другой области, они ничем не отличаются. Моя область — медицина, я эти концепции применяю в ней. И целей у глобальной организации, созданной в Израиле, у IHEA, как минимум две: образование врачей и образование пациентов.

Илья Фоминцев на конференции. Фото из личного архива
— Это то же самое, что вы раньше делали в России?
— Да-да, очень похоже, хотя теперь мне уже очевидно, что будет не только так. Будет еще и создание клиник, и поддержка современных клиник, но все это стороны одной медали. Для этого я собираюсь применять все концепции. Конечно, когда я вам их описываю, то использую не медицинский язык.
Я же не пациента собираюсь лечить. Я собираюсь лечить здравоохранение. А там своя патанатомия, своя патфизиология.
— Когда вы выбирали профессию врача, когда выбирали лечение именно рака, вы же, наверное, именно лечить хотели, а не организовывать?
— Да, я хотел лечить больных. Я был молод, я хотел лечить людей, и это мне удавалось.
— Почему врач становится организатором здравоохранения, как вы сами это назвали? Часто говорят, что это удел плохих врачей.
— Я видел вокруг себя кучу недостатков, которых вообще никто не мог исправить. Эти недостатки бросались в глаза, а вокруг меня коллеги только сетовали: ну вот так, будем это терпеть. Потом умерла моя мама, и я понял, что не хочу со всем этим мириться. Потому что я понимаю: умирают люди ровно из-за этого. Ровно из-за того, что я вижу. И тогда я решил заняться исправлением этих недостатков, которые видел вокруг. Просто никто вокруг не собирался это исправлять. Все врачи, которых я видел рядом с собой, просто говорили в том духе, что «каждая погода хороша».
— Вы сказали, что люди умирают «ровно из-за этого». Что это такое — «ровно это»? Из-за чего люди умирают?
— Я видел, что огромное число людей умирает потому, что в России нет профилактики рака. Они могли бы вообще не умирать, но профилактики рака в тот момент в России просто не было ни-ка-кой. Я занялся этим. А когда ты занимаешься профилактикой рака, ты просто неизбежно погружаешься в управленческие вопросы. Я погрузился — и понял, что дело не только в профилактике рака.
— А еще, например, в том, что пациенты у нас очень темные?
— И пациенты темные, и врачи темные. И начинать надо от печки. И пошло, пошло, пошло. И вот я был доктором, который лечит пациентов, а потом стал доктором, который лечит медицину. Здравоохранение, точнее. А когда ты лечишь здравоохранение, твое образование — это образование управленческое. То есть ты должен, конечно, понимать, как все устроено внутри, ты должен побыть на месте врачей. И я побывал на всех позициях: я был хирургом в стационаре, я побывал врачом в поликлинике — общим онкологом, побывал в частных клиниках. Я знаю изнутри, как работает это все.
Это был абсолютно необходимый опыт, но недостаточный, и к 2017 году мне стало очевидно, что образования мне не хватает. И я поступил в Стокгольмскую школу экономики и получил степень MBA. Это просто перевернуло мое представление о том, что я делаю и куда иду.
«Нам говорили на лекции: никогда не извиняйтесь перед пациентом»
— С какими странами, кроме Казахстана, вы уже имели дело?
— С Узбекистаном. Пока две.
— Сравните, пожалуйста, то, что вы увидели в медицине вообще и в онкологии в частности в этих двух странах — и в России.
— Вся постсоветская медицина — это сорта дерьма.
— ?
— Это просто одно и то же. Узбекистан немного отдельно стоит, но Казахстан схожестью проблем с Россией поражает. Проблемы одинаковые просто в мелочах.
— Например?
— Некорректно работающая система ОМС. Коррупция такая же абсолютно, если не хуже. Хотя сейчас, при Токаеве, в Казахстане стало с этим сильно лучше и продолжает улучшаться. Я слушал истории о том, как это раньше было, и у меня глаза на лоб лезли. Вот что такое было в Советском Союзе, что заставляет абсолютно все страны ступать по абсолютно одинаковым граблям? Мне даже не нужно было, чтобы мне что-то в Казахстане объясняли, я уже, как выяснилось, все знал.
— Например, в России проблема ОМС в том, что тарифы несопоставимы с реальностью, поэтому и к врачу попасть проблема, и работают врачи так…
— То же самое. Я же говорю: в деталях все то же самое.
— Но ведь советская медицина считалась прекрасной, советские врачи — душевные, они с больным и поговорят, не то что на Западе бездушные вымогатели денег…
— Простите, а кто советскую медицину считал прекрасной?
— Сами врачи.
— А напомнить вам, что происходило в Советском Союзе в роддомах?

Логотип основанного Фоминцевым в Израиле международного фонда IHEA
— Зубы сверлили и аборты делали без анестезии принципиально: пациент орет — доктор понимает, что задел что-то не то.
— И таких примеров есть масса.
Советское здравоохранение не было ориентировано на человека. Оно было ориентировано на трудовые коллективы и на армию. На то, чтобы не допустить заболеваемости, смертности и так далее.
В последние годы что-то стало меняться, в том числе и благодаря нашей ВШО, потому что мы орали об этом постоянно. И я вижу, как начали меняться частные клиники, а они оказывают влияние и на вузы. Но раньше голоса пациента слышно вообще не было. Ситуация была странная. Разговариваешь ты с врачом — он весь такой пламенный: я, мол, за больного жизнь положу. В этот момент в ординаторскую скромно так засовывает голову пациент…
— А доктор ему: «Закройте дверь!»
— Именно! «Закройте дверь с другой стороны!» Погоди, ты же только что за него собирался жизнь отдавать. Петр Мамонов как-то рассказывал о поэтах: вот он пламенно пишет вирши возлюбленной: я ради тебя в огонь и в воду, жизнь отдам и так далее. Пишет, перо скрипит, язык наружу, глаза вращаются. Тут появляется возлюбленная и просит помыть посуду… Вот не надо жертвовать жизнью, помой лучше посуду. Но поэт кричит: «Не мешай!» И вот так это работало в советской медицине.
— Что стало меняться благодаря ВШО? И где — в медицине в целом или только в онкологии?
— Думаю, в медицине вообще, потому что мы очень много об этом говорили и писали. Но в онкологии в первую очередь, потому что там были все контакты. Очень многие стали задумываться, искать возможность учиться, начали создавать школы. Я же проехал с лекциями для студентов всю страну — от Хабаровска до Калининграда. И все эти лекции были о пациентоцентричности. О том, что
медицина — это ради конкретного физлица, которое прямо сейчас сидит у тебя на приеме, а не вообще ради «людей».
— В России вашей школе удалось сдвинуть с места только что-то на уровне врачей? Или на уровне организаторов медицины и чиновников тоже? Что-то у них зашевелилось в головах?
— Думаю, да. По крайней мере, появился какой-то карго-культ в смысле коммуникации с пациентами.
— Карго-культ, то есть имитация, это перемена к лучшему, вы считаете?
— Да, это имитация деятельности без понимания механизма. И сначала я страшно бесился, когда видел, что это карго-культ. А потом я понял, что это просто одна из стадий, хорошо, что хотя бы она появилась, потому что о проблеме заговорили. Стали появляться школы, помимо ВШО, ориентированные на то же самое.
— А с образованностью пациентов вам удалось что-то сделать?
— Эти проекты мы начали только в 2020 году, слишком мало времени прошло, чтобы оценить. Я могу рассуждать, оперируя не результатами, а только метриками процесса. Но почему мы вообще стали этим заниматься и почему я сейчас этим занимаюсь: отношение к больным в Советском Союзе, о котором я говорил, было связано с тем, что роль пациента вообще была очень низкой. Пациенту в принципе не положено было что-то знать. Именно не положено.
— Больным раком часто не говорили диагноз, считалось, что нельзя.
— Именно так. В целом была такая концепция: пациент должен сидеть и помалкивать. Это прямо проговаривалось. Я просто помню, как нам говорили на лекции: никогда не извиняйтесь перед пациентом.
Патернализм был на уровне государства — и такой же патернализм был в медицине: ты дите неразумное, сиди и помалкивай, мы за тебя все решим.
— По большому счету это правильно: пациент анатомию не учил.
— Не учил. Но знать что-то о том, что с ним происходит, он не только имеет право, но и должен. Ведь те же самые врачи жаловались, что пациент назначений не выполняет. Конечно, не выполняет, потому что он вообще не понимает, что происходит. И это до сих пор распространено: у врача вызывает раздражение, когда пациент вопросы задает. «Умный такой, что ли?» Кстати, если доктор раздражается, если вы вопросы задаете про свое здоровье, это первый признак того, что врача надо менять.
Когда я понял это, я начал заниматься образованием пациентов массово. Ну а что может давать массовость? Цифровые продукты. И мы сделали проект «Всё не напрасно», который и сейчас прекрасно работает в России. Я собираюсь делать версию «Не напрасно 2.0» — уже global. Такую версию движка для пациентов я сейчас буду делать в Казахстане, а потом распространять на весь мир, на все языки и все специальности.
— Зачем? Эта проблема в мире так распространена?
— Конечно. Она есть во всех странах в той или иной степени. Там, где медицина плохая, там и пациенты обычно ничего не знают. И я не могу сказать вам, что тут первично: то ли плохая потому, что пациенты ничего не знают, то ли пациенты ничего не знают потому, что медицина плохая. Следовательно, подтягивать надо сразу обе части. Нельзя подтянуть одну — и ждать, пока все заработает.
— Получается, эти ваши проекты предназначены для стран с плохой медициной?
— Да, но это большинство стран в мире. В России ведь медицина не самая плохая, в Африке она гораздо хуже. Во многих арабских странах с этим тоже не очень хорошо.
Страны с хорошей медициной — это США, Израиль, почти все страны Европы, Южная Корея, Япония. Сейчас подтягиваются Китай и Турция. Это я вам перечислил почти всё, остальные — это страны с плохой медициной, на фоне которых Россия — далеко не худший вариант, вполне себе крепкий середнячок.

Илья Фоминцев. Фото из личного архива
«Надо ли нагонять давление в дырявой трубе»
— В Израиле прекрасная медицина, но там «на четверть бывший наш народ» — тот самый «плохой пациент». При хорошей медицине «плохие пациенты» меняются?
— В Израиле работает огромная система образования пациентов. Это в первую очередь четыре больничные кассы. Считайте, что это четыре «фонда ОМС». Каждая проводит свои мероприятия, у каждой свои ресурсы. Это огромная индустрия. Они между собой конкурируют. Каждый житель страны выбирает любую больничную кассу и может поменять ее в любой момент. Моя жена поменяла больничную кассу случайно. И знаете, что произошло?
— Вам стала звонить «отставленная» касса?
— Нас просто замучили звонками: что случилось, чем мы вас обидели? Потому что, когда ты выбираешь больничную кассу, туда поступают твои налоги. Внутри больничной кассы много врачей и клиник, и они еще и между собой конкурируют.
Конкуренция за пациента там лютая, и на этом фоне, конечно, высокий уровень медицины.
— В России в последние годы было вбухано много денег в развитие онкологии, в лечение рака. Вы замечали эффект от этих вложений?
— Вы спросите любого сантехника, имеет ли смысл нагонять давление в дырявой трубе? Если в медицине коррупция, а в ней коррупция такая, какую трудно найти еще где-то, то денег можно закачивать сколько угодно, но они будут потрачены неправильно, не туда, не так. Но коррупция, по моим ощущениям изнутри системы, выедает примерно половину бюджета на медицину. А еще значительная часть денег уходит на безграмотные решения: не то закупили, не туда поставили не потому, что коррупция, а просто не знали, как правильно. На реальные дела в медицине остается совсем мало. Примеров я знаю массу. Сколько бы денег вы ни загнали в онкологию, до конечной пользы дойдет 15‒20%, я думаю. И у меня маленький вопрос: прежде чем загонять деньги в трубу, может, сначала дыры в ней залатать?
— А эта система еще поддается ремонту?
— Конечно. Для «ремонта» медицины нужна такая мелочь, как, например, независимый суд.
— Неожиданно для нашего разговора.
— Медицина — это ведь не что-то отдельное от остального общества, это часть общества. Если в обществе не работают механизмы, так они и в медицине работать не будут. Когда вы с кем-то подписываете договор в Российской Федерации, вы не можете быть уверены, что договор будет выполнен, потому что нет независимого суда. Договор в России — это в лучшем случае небольшое препятствие для того, кто захочет вас обдурить. Все решается по системе понятий, а эта система абсолютно коррупционная. Нет суда — нет обратной связи, нет обратной связи — ничего не будет развиваться.
16 мая 2023 г. Ирина Тумакова, спецкор «Новой газеты»
Тэги: