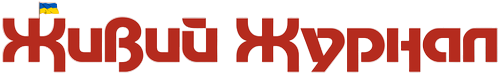| ЖЖ » Новини » Люди і Суспільство » 2022 Май 11 » 13:07:50 |
Игорь Середа — глава ритуальной службы из Киева хоронил убитых прямо под обстрелами. А теперь эксгумирует тела в Буче. Вот его история

С начала войны в Киевской области погибло больше тысячи мирных жителей. Большинство — в поселках и городах, которые временно оказались в российской оккупации. 24-летний Игорь Середа — глава ритуальной службы в одном из таких поселков, Немешаеве. С 24 февраля Середа прямо под обстрелами хоронил людей из всех окрестных сел. А когда пригороды Киева были освобождены, начал работать в Буче — занялся эксгумацией братских могил и стихийных захоронений. Спецкор «Медузы» Лилия Яппарова поговорила с Игорем Середой о похоронах на войне — и о том, что он понял про российских солдат за время оккупации.
— Как вы возглавили похоронное бюро в Немешаеве?
— Ритуальными услугами в поселке 20 лет занимался мой отец. Когда мне было 14, он впервые взял меня с собой в морг.
Тогда мы — из-за моих проблем со спиной — поехали в военный госпиталь на Печерске, и вдруг он говорит: «У меня тут знакомый в морге — хочешь зайти?» А я малой еще был — решил показать ему, что «я все-таки мужик».
Я запомнил запах — непривычный для меня. А когда увидел человека на вскрытии — разрезанного, с открытым черепом, — возникло такое чувство неизвестности. Привык видеть живых — и как это так, что мужчина тут лежит, а у него органы вынимают и обследуют, сердце достают? У меня тогда случилось осознание смерти.
Отец понял, что я не боюсь, — и с 16 лет я начал ездить с ним забирать покойников с [мест] ДТП, из домов. Отдавать на судмедэкспертизу. Бальзамировать. Одевать. С 18 лет, как права получил, я уже сам ездил. А когда мне было 20, отца не стало — с тех пор я занимаюсь его делом сам. Сейчас мне 24.
— Вы хотели продолжить семейное дело?
— Это как-то случайно получилось. Отец, кстати, в целом не хотел, чтобы я шел в ритуальную службу. Говорил, «оно тебе не надо». Это очень нервная работа. Ему было всего 45 лет, когда у него случился инсульт.
Инсульт у отца случился в начале сентября, в самом начале моей учебы. Я на тот момент учился в университете для поступления на фискальную службу, жил в казарме. А мы помимо [организации] погребений еще изготавливаем надгробия — и люди [после инсульта отца] продолжали названивать: «Где памятник?» Я подумал, что возьму больничный на неделю, закрою все хвосты по скульптурам. Плюс маму нужно было возить в больницу, лекарства отцу покупать.
Неделя, вторая неделя — отец оставался в коме. Потом его не стало. И в университете мне сказали: ты или уходишь совсем, или возвращаешься в казарму капитально. Тут же начали звонить из нашего сельсовета и настаивать: «Ты ж перенял [ремесло]! Давай занимайся, помоги нам там, там и там».
Просто ритуальных служб очень мало, никто не хочет этим заниматься. Я посидел, подумал — и решил, что буду в ритуальной сфере. Все равно уже более-менее с ней знаком.
Работа у нас специфическая. Люди ее делать не хотят — но кто-то же должен делать. Я потому и не выезжал из Немешаева, когда война началась. Сразу понял, что буду оставаться. Мама тоже отказывалась — она уехала [из поселка] только 9 марта.
— Российские военные въехали в Немешаево в первых числах марта. Как начиналась оккупация?
— Первые дни [войны] мы делали похороны как обычно: и батюшка был, и процессия. И до последнего надеялись, что в Немешаево они [российские военные] не зайдут. А когда зашли, мы поначалу даже не знали, чего от них ожидать. Но скоро поняли, что они из себя представляют.
Если русские ехали, а ты выезжал [на машине] им в лоб, они стреляли. Или в воздух, или сразу по машине. А чтобы целенаправленно убивать, как в Буче, так у нас убили 20 мирных человек [за время оккупации].
В [соседних] Микуличах, где у меня магазин [ритуальных товаров], какой-то [военнослужащий] бурят заходил подряд во дворы, стучался в калитки. А когда ему открывали, просто впритулу стрелял [хозяину дома] из пистолета в лоб. Зашел — убил — пошел дальше; зашел — убил — пошел дальше. Пять человек застрелил так.
Поначалу еще связь была, и люди мне дозванивались: «У нас умер человек — похороните, пожалуйста». Когда русских не было видно, мы выезжали хоронить. Повезло еще, что все улицы Немешаева очень длинные: полкилометра, километр. Выбегаешь на улицу, глянул — их нету. Проехал улицу. На следующую выезжаешь, глянул — проехал. Так и передвигаешься.
В Микуличах ситуация посложнее была: они там стояли по всей главной улице. Заехать и сделать похороны мы не могли — и люди хоронили у себя во дворе.

— Как люди относились к вашей работе во время оккупации?
— Мы даже не думали, что кто-то заметит нашу работу. Это всегда настолько в тени оставалось… Да и ритуальщики всегда у нас считались «плохими»: в Киеве похороны стоят 25 тысяч гривен, у нас — восемь. Включая гроб, крест, копку могилы, катафалк, вынести — занести — опустить. Но для наших людей это все равно очень дорого. И мы постоянно слышали, какие мы растакие.
И когда в войну нас начали благодарить за работу… Думаешь про себя: «Ничего себе, неужели тебя заметили?»
Все [в поселке] знали, где у нас морг. Ну «морг» — это я образно говорю; у нас в Немешаеве своего морга [никогда] не было. Просто в больнице, внутри отделения скорой помощи, была прачечная. Самое холодное помещение. [После начала войны мы] сбили замок и складывали там тела.
Люди порой сами к нам в морг привозили погибших. Вот застрелили человека возле «Форы» — и волонтеры сами, пока русских не было видно, забрали тело с улицы, завезли. И нам потом сообщили: «Закопайте». Мы взяли гроб и похоронили.
Похороны мы вообще старались не откладывать. Не растягивали. На случай, если сами погибнем. Или, не дай бог, много людей разом убьют.
— Помните первого человека, которого вы похоронили в войну?
— Это был мой одноклассник. Мы в тот день похоронили сразу четверых, потому что с разницей в несколько часов убило снарядом моего хорошего знакомого, волонтера Сергея Раскевича — и убили моего одноклассника. Еще один мужчина въехал в блокпост и разбился. Другой дедушка просто умер своей смертью.
Моего одноклассника, говорят, зарезали в горло. Это все алкоголь на войне: он был из не особо благополучной семьи, после 24-го [февраля] его все предупреждали: «Не пей». Но он начал пить — а на [проходящей через всю Киевскую область] Варшавской трассе был блокпост русских. Он пошел к ним — и уже не знаю, какая там была ситуация, но его, говорят, просто зарезали.
Правда, во время погребения у меня возник вопрос к этому ранению. Все говорят, что его зарезали, а я вижу, что это не ножевое, а осколочное. Потому что рана слишком широкая, а на краях — обгоревшая плоть.
Брат и его друзья говорят, что видели, как его ударили ножом, — но ножевые ранения, которые я видел, выглядят совершенно иначе. Медицинского образования у меня нет, но есть опыт — я и в мирное время забираю тела убитых.

— Тяжело организовывать погребение людей, которых вы хорошо знали?
— Очень обидно. Мне очень обидно за Сергея [Раскевича] — он волонтер, он очень много помогал, у него дочь (немного младше меня) и сын (немного старше). Обидно, что умер такой человек. Отличный был мужик.
У нас в школе был бункер, и в этом убежище в дни войны собиралось до 700 человек — и иногда всю провизию, что у нас была, мы свозили туда. Еду, медикаменты — все, что получалось добыть. Когда появились раненые, нам пришлось взломать аптеку, чтобы достать лекарства. Часть мы в тот день [день гибели Раскевича] завезли в дом культуры — у нас там сделали операционную, — а остальное вывезли как раз в бункер. Загрузили две машины — нашу и Сергея. Мы доехали первыми, разгрузились и уехали. Нам звонят через 15 минут и говорят, что Серегу, который ехал за нами, убило. На том же самом месте, где мы были 15 минут назад. В 10 метрах от него снаряд пришел.
Мы сразу хотели его забрать, но нам отсоветовали: «Не надо, тут сейчас русские». Начало потихоньку темнеть — а он на улице лежит все это время. Потом батюшка уже включился: «Давайте я надену рясу и приду его забирать — батюшку, может, не тронут?»
В итоге родственники сами собрали его в покрывало, положили в машину и повезли. Жена Сереги сама помогала копать ему могилу.
— Как выглядят похороны в войну?
— Во время войны ты настолько быстро все делаешь, что… Пока мои ребята на кладбище копали, я ехал домой, забирал покойного, улаживал его в гроб — и, пока я довозил его на кладбище, яма уже была готова. Опустили — закопали — убежали. Вот и вся церемония. Чтобы буквально в течение часа похоронить человека.
Хоронить под обстрелами поначалу страшно: прилетает, взрывается, ты боишься даже выйти туда. Но через недели две-три уже начинаешь понимать, откуда летит, что летит, и учишься рассчитывать, прилетит еще сюда или уже нет. Яма копается часа два, и высидеть все это время в чистом поле и прямо под обстрелами… Короче, пока тихо — копаешь до упора.
Каждого мы пытались похоронить в гробу. У меня магазин постоянно открыт был в Микуличах, в соседнем селе — и если я не мог туда доехать, люди заходили и брали гробы сами.
Если брали гроб, то уж и крест успевали взять. Бывало, пару гробов кинул в машину — пусть будет, чтобы лишний раз не ехать эти пять километров. А если крестов не хватало, я просто запоминал, кто где похоронен, потом крест привозил и ставил.
Когда стали кончаться кресты, на братские захоронения ставили один крест на двоих. В мирное время на [прикрепленной к распятию] табличке оставлено четыре строки на одного человека: фамилия, имя, отчество, даты рождения и смерти. А мы на первых двух умещали одного, а на двух нижних — другого.
Когда всех данных не знали на человека — например, когда из Бучи тела привозили, — то писали просто: «Буча, фамилия, инициалы». И ставили на табличке стрелочку, что человек из Бучи похоронен справа. А у одного мужчины из [села] Клавдиево было такое специфическое отчество, что мы написали только его и поставили стрелочку, что он слева лежит.
Эти отметки на временных захоронениях я делал сам для себя. Чтобы потом понимать, кого эксгумируем.

— Российские военные пытались контролировать похороны?
— Мы у них ничего не спрашивали. Не ходили к ним за разрешением пойти копать могилу. Мы выезжали и на фарт ехали.
Но из [села] Мироцкого нам позвонили две женщины, мама и дочка: «Можете похоронить?» Я говорю: «У вас там русские, как я туда проеду?» Тогда она пошла к ним, договорилась на блокпосте, чтобы меня пустили.
Когда мы подъехали, нам буквы V понаклеивали по машине, белые ленточки всякие понавешали. Зашли в дом — и пока мы дедушку в гроб улаживали, пришли русские: контролировать нас.
Сопроводили нас на кладбище: сначала ехали мы, потом БТР. Пока мы рыли могилу, над нами стояли трое солдат с автоматами, голову поднять не разрешали. «Копаешь? Копай». Вот так готовишь яму — и не знаешь, себе готовишь или не себе все-таки.
— Погибших в дни российской оккупации зачастую приходилось хоронить не профессионалам, а их же родным: тогда могилы появлялись во дворах и огородах. Их теперь приходится эксгумировать?
— Да, сейчас мы эксгумируем тела оттуда, чтобы нормально похоронить. Когда мы не могли добраться до места — некоторые поселки были блокированы [российской армией] полностью, — люди устраивали погребение сами.
Некоторые хоронили в больших полиэтиленовых пакетах. Другие сбивали ящики — ну самодельные гробы. Кто-то закапывал просто в покрывале, в полиэтиленовой пленке. Сверху на завернутое в покрывало тело иногда клали стенки шкафа. Это делали те, кто понимал, что мы будем откапывать потом — и что прикрытое хоть какой-то доской тело труднее повредить лопатой. Единицы, конечно, об этом задумывались — но это сильно выручает нас сейчас.
Те, кто мастерил свой гроб, зачастую делали только хуже. Земля там мокрая и тяжелая, сам гроб весит килограммов шестьдесят — еще и покойник внутри. И мы приезжаем вдвоем — и поднять нам его очень сложно. Иногда мы просто разбираем крышку — и через крышку вынимаем тело.
При этом люди, конечно, ставили над такими могилами какие-то крестики из палочек. Садили какие-то цветочки, конфетки клали, детям — игрушки. Ухаживали за могилками — как на кладбище.
— После освобождения Киевской области вы стали работать в Буче: собирать тела, эксгумировать братские могилы, перезахоранивать погибших. Помните свои впечатления от первого дня?
— Ну сначала шок. Потому что мы без связи сидели и не знали даже, что происходит в Бородянке, в Буче. Мы думали, что как у нас — так везде. А у нас буквально до 20 человек убитых [в поселке] было. И это мы еще думали, что «вот капец как у нас стреляют-убивают».
А потом ты приезжаешь в больницу — и тебе надиктовывают список адресов по Буче. «Поедешь заберешь — пиши откуда». Сел, открыл блокнот, зафиксировал — и говорю ему: «Ну все, я пошел». И он такой: «Не-не-не, ты куда, подожди!» И называет еще адресов двадцать. И каждый день мы с семи утра до позднего вечера так работали. Проснулся, кофе выпил — и возвращаешься, уже когда темно. Первые недели две мы только и делали, что возили покойников.
На каждом адресе их от одного до семи. Тебе дают адрес — и ты не знаешь, что там будет, сколько тел. Без понятия. На детей, слава богу, я не попадал.
— Помните, как впервые увидели в Буче улицу Яблонскую, устланную телами?
— Да одни маты в голове просто. В мирное время ты такого никогда не увидишь. Полиция, военные мимо едут — а тела просто лежат. Причем [во всей Буче] не один человек лежит — их сотни. Мы их перевозили просто сотни! Я только в машину загружал по 16 штук! За один раз.
Они едут с тобой в одной машине — на полметра позади тебя. Запах этот ни с чем не сравнить — ни с убитым животным, ни с протухшим, ни с чем. Это специфический запах.
В мирное время ты приезжаешь и забираешь бабушку или дедушку прямо из постели зачастую. А тут мы сначала собирали тела с улиц, потом выкапывали во дворах. Порванные тела. Поломанные тела. Еще в крови — или уже разложившиеся. Из братской могилы его вынимаешь, а руки уже отдельно, ноги — отдельно.
Просто когда ты видишь такое количество покойников… Вот стоят три фуры — полностью, стопками забитые телами. Надо просто это увидеть — словами это не описать. Когда тела у тебя просто не помещаются в морге — и ты сразу везешь их на кладбище и складываешь кучей: по 100, по 150 штук. Это ненормально. Такого не может быть.
Вот и считайте общее количество тел, которые мы выкопали. Они были убиты в таких количествах — не просто умерли, а именно были убиты. Шесть моргов. В каждом по два рефрижератора. И в каждом рефрижераторе — около 100 тел. Это не меньше тысячи погибших.
— Получалось ли в момент эксгумации узнать что-то о погибших?
— Бывало, мы узнавали точный возраст погибших. И это шокировало. Мои ровесники, чуть старше меня. Инвалиды. Бабушки в возрасте, просто застреленные в голову.
Мы выкопали в Буче двух парней, 1993 и 1995 года, и девушку 1996-го. Я их знал, этих ребят. Это были три волонтера, они ездили на BMW X5 — и их просто возле их дома расстреляли. Их отец достал тела из машины, занес домой, одел и сам похоронил в лесопосадке за двором. Мы их выкапывали [чтобы перезахоронить], это уже во второй половине апреля было.
А из братской могилы в Буче выкопали бабушку в памперсе. Я вот думаю: вот ты мужчина, ты пришел на войну. И ты убиваешь женщину, бабушку? Какую угрозу она могла нести? Бабушка в памперсе?
— Одной из первых в Буче появилась братская могила возле церкви Андрея Первозванного. К сегодняшнему дню из этого захоронения подняли 117 погибших.
— Ее потихоньку раскапывали — начали 1 апреля и помаленьку продвигались дальше и дальше. Масштабы стали понятны только со временем. Только когда их начали оттуда, из глубины, доставать.
Потому что там траншея примерно 50 метров длины и два метра ширины — в мирное время в такой можно похоронить не больше 55 человек: на один гроб нужно как минимум 80 сантиметров.
Но без гробов людей можно сложить намного ближе, теснее — одного на другого положить. И в этой братской могиле [поместилось] гораздо больше людей. Многие просто внахлест лежали.
— Как искали стихийные захоронения, которые жители пригородов Киева делали сами? Неотмеченные могилы?
— Родственники, которые сами хоронили своих, [после освобождения пригородов] вызывали полицию. Потом еще прошлись саперы: пока искали растяжки и мины, находили еще и могилы — насыпанный холмик, поставленный крестик.
Были захоронения, которые нашли вообще случайно. Полиция рассказывала: «Нам местные из Бучи сказали, что в лесопосадке за Яблонским кладбищем рука торчит из земли. Приезжаем — и правда торчит. Неглубоко закопали человека. Начинаем копать — а там не один, а шесть погибших».
Эти тела мы потом забирали. До сих пор непонятно, кто это был. Только у одного парня я паспорт нашел. Взял его за курточку поднимать — и чувствую, что в кармане что-то есть. Открываю карман — а там паспорт. 1991 года человек.
— Находили ли вы захоронения, сделанные российскими военными?
— Меня там не было — не знаю, пытались они прятать тела в землю или нет. Но думаю, что новые братские могилы мы будем находить еще долго. То, что сейчас меньше работы, — это пока что.
Пока ведь и в леса никто не ходит: там мины, куча снарядов еще остается, людям страшно. А захоронения мы часто находим именно в таких посадках. Сейчас уже начинают звонить, что [местные] пошли туда и нашли тела.
Мой знакомый так могилу в лесу нашел где-то неделю назад: мирный житель, которого убили выстрелом в голову. Два ранения: в щеку и в затылок. А вчера мы выкопали тело человека из лесопосадки. Но я не знаю, кто его закопал: то ли русские, то ли просто местные.
— Что вы поняли про российских солдат за время оккупации?
— Мы поняли, что там, откуда они пришли, — нищета. Они говорили, что «у вас в Загальцах так хорошо, плазмы везде — мы все завоюем и вернемся туда жить». А это просто село за Бородянкой — самое обычное село.
Форма на них телепается, вся старая. Каски еще советские как будто. Они, когда в Немешаево приехали, зашли в «Фору» на второй этаж — и одежды понабрали себе. Обычной рыбацкой одежды.
Но здесь, у нас [в пригородах], это была не война, а целенаправленное убийство безоружных. В Ирпене и Гостомеле хорошо им дали [отпор] — и они начали просто мстить. Еще, может, была какая-то зависть — что у нас тут лучше, чем у них там.
Но вообще у меня нет объяснений, почему мужчина может так поступать с мирными. С женщинами и детьми.
— Как на вас сказался месяц работы по эксгумации тел погибших?
— Я недоумеваю. Крутится постоянно в голове: «За что их убили? Зачем?» И злость, и ненависть ко всему этому.
Так-то они [погибшие] в пакетах — но пакетов много плохих: где голова выпадает, где еще кровь течет. Ты на все это смотришь и… Как правильно сказать?.. Чувство такого ужаса охватывает. Мы постоянно занимаемся похоронами — но ты смотришь на эту гору трупов… Это не может быть нормальным для человека.
Встретила меня знакомая — мама моего одноклассника, тамада, праздники ведет. Спросила, как я. «Ну нормально». И она просто смотрит на меня и говорит: «Просто вижу твою улыбку, вижу твои глаза — и понимаю, что ты улыбаешься уже от отчаяния. Когда уже все, капец — и ты улыбаешься, потому что что еще остается».
Я же говорил, что отец мне советовал не идти в эту работу, потому что нервы.
Беседовала Лилия Яппарова, Meduza
Тэги: